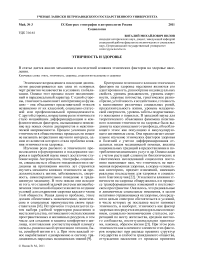Этничность и здоровье
Автор: Нилов Виталий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3 (116), 2011 года.
Бесплатный доступ
Этнос, этничность, здоровье, социология медицины и здоровья
Короткий адрес: https://sciup.org/14749893
IDR: 14749893
Текст статьи Этничность и здоровье
Этническое возрождение в последние десятилетия рассматривается как одна из основных черт развития человечества в условиях глобализации. Однако этот процесс носит неоднозначный и парадоксальный характер. С одной стороны, этничность выполняет интегративную функцию – она объединяет представителей этносов независимо от их классовой, социально-статусной или профессиональной принадлежности. С другой стороны, возрастание роли этничности стало мощнейшим дифференцирующим и конфликтогенным фактором, вызывающим появление все новых очагов диспаритетов и межэтнической напряженности. Процесс усиления роли этничности в общественных процессах не может не вызывать возрастания научного интереса, одним из аспектов которого стала проблема влияния этничности на здоровье.
Изучение роли расового и этнического происхождения в формировании и поддержании здоровья в зарубежной науке имеет достаточно глубокие корни. Антропологи, этнографы, социологи, специалисты в области эпидемиологии и медицины на протяжении многих лет стремятся изучить механизм влияния этничности на продолжительность жизни, заболеваемость, смертность, самосохранительное поведение и традиционную медицину. В этом поиске они исходят из того, что главной задачей системы жизнеобеспечения этнической общности является создание условий для сохранения здоровья каждого члена этой общности. Решая данную проблему, этнос должен обеспечивать экономические, политические и социальные преимущества своим представителям [16]. Исторически это реализуется путем выбора удобной территории расселения и места жительства, оптимального использования пространственных и жизненных ресурсов, в том числе для создания и защиты комфортного жилища, изготовления соответствующей климату одежды, рациональной организации питания, быта, семейной жизни и т. д. При этом каждый этнос вырабатывает одновременно и систему традиционных народных медицинских знаний [9].
Критериями позитивного влияния этнических факторов на здоровье населения являются его адаптированность, разнообразие индивидуальных свойств, уровень рождаемости, уровень смертности, здоровье потомства, генетическое разнообразие, устойчивость к воздействиям, готовность к выполнению различных социальных ролей, продолжительность жизни, уровень младенческой смертности, уровень заботы подрастающего поколения о пожилых. В западной науке для теоретического объяснения феномена позитивного влияния этничности на здоровье была выдвинута идея уникального генофонда, обособляющего этнос как популяцию и аккумулирующего жизненные силы. Она предполагает специальное изучение этнических факторов здоровья и болезней с учетом дифференцирования отдельных видов медицинской помощи, анализа национальных традиций в предоставлении и потреблении медицинских услуг и др. Однако даже с учетом растущей сложности биологических и генетических исследований социология постоянно напоминает нам, что этничность не неизменная переменная здоровья, а скорее «социальная категория», предмет изменений, имеющих реальные последствия для здоровья и социального благополучия [22]. Эти аспекты влияния эт-ничности на здоровье обнаружились и в процессе трансформационных изменений в постсоветском пространстве. Оказалось, что радикальные и динамичные социальные изменения, в целом негативно отражающиеся на здоровье, опосредуются целым спектром обстоятельств и условий, в числе которых не последнее место занимает этничность, и наоборот, этничность как фактор здоровья опосредуется индивидуальным поведением, социально-экономическим статусом, сегрегацией по месту жительства, средами местного сообщества, институциональными практиками, наконец, образом жизни [21]. При этом роль этничности как ключевого элемента этих факторов возрастает при распаде прежних структур государства и слабости гражданского общества, отчуждении населения от процесса принятия политических решений, нарастании жизненной неопределенности, масштаба тиражирования фактов, известий, слухов об отношениях «других» к «нам» и «нас» к «другим», превращении этнической мобилизации, ксенофобии и экспрессивности в повседневные формы поведения [15]. Одновременно в условиях возросшей общественной динамики усиливается и другая угроза – появления персистента, то есть статического этноса, реликта, прошедшего, как указывает Л. Н. Гумилев, все фазы этногенеза, устойчиво находящегося в состоянии этнического гомеостаза, однако способного легко погибнуть от внешнего воздействия [7]. Такая этническая система лишена механизмов, обеспечивающих адаптивность, поскольку не выполняет функцию межэтнической идентификации, ограничивается лишь сугубо этнической идентификацией и межэтническим обособлением и поэтому утрачивает и психологическую готовность приспособления к новым условиям. В этих обстоятельствах генетическая предрасположенность к определенным этническим болезням дополнительно отягощается неблагоприятными социально-экономическими условиями существования этноса и его культурными стереотипами [5]. Генетическая предрасположенность этноса к определенным патологиям начинает реализовываться и ведет к снижению статуса здоровья этноса.
Взаимозависимости этничности и здоровья позволяют говорить об «историческом здоровье этноса», которое, по мнению В. П. Казначеева, представляет собой процесс развития биологической и психосоциальной жизнеспособности популяции и разворачивается в ряду поколений, отражаясь на трудоспособности и производительности коллективного труда, росте экологического доминирования, совершенствования вида Homo sapiens [8]. В его основе лежит адаптация как процесс сохранения и развития биологических свойств вида, популяции, биоценозов для обеспечения прогрессивной эволюции в неадекватных условиях. Действием этих механизмов можно отчасти объяснить различия здоровья этносов, которые демонстрирует отечественная социальная статистика (см. [10]). Разумеется, эти очевидные факты этнического влияния на статус здоровья населения требуют и социологического анализа, их нельзя игнорировать, как это порой делают некоторые исследователи [1], [20], [17]. Данную позицию можно объяснить тем, что для российских исследователей тема «Эт-ничность и здоровье» оказалась в 1990-е годы принципиально новой, поскольку в Советском Союзе исследования этничности были подчинены идеологическому тезису расцвета и сближения наций, вследствие чего этнические различия в статусе здоровья практически не изучались. Поэтому актуализация данной проблемы в последние годы заставила отечественных исследо- вателей обращаться к опыту западной социологии здоровья и медицины. Функционализм, символический интеракционизм, теория рационального выбора и некоторые другие направления западной социологии позволили укрепить фундамент теоретических подходов социологического изучения здоровья и болезней этнических групп. Важное значение имело включение в исследовательский дискурс западных теорий этничности, позволившее уточнить границы этнической общности, разработать методики подготовки и проведения опросов этнических групп и др. Определенную помощь оказал и накопленный за рубежом опыт изучения таких тем, как этнические особенности отношения к здоровью и болезням, разным видам медицинских вмешательств, модели отношений между врачом и пациентом, здоровье мигрантов, этнические болезни, распространение социально опасных заболеваний среди представителей различных рас и др. [4], [2], [6].
В последние годы социологические исследования этнических аспектов здоровья были проведены и в Республике Карелии [14]. Их результаты показали, что игнорирование этнических факторов здоровья в социальной политике государства неблагоприятно сказывается на благополучии коренного населения региона, ведет к снижению его адаптивных способностей [12]. Такая позиция не может не вызывать критики: как правило, коренное население обладает большими ресурсами приспособления к среде проживания, нежели мигранты, что доказывают медико-социальные исследования, проведенные и в других регионах страны [6]. Они показывают также, что в пределах этнотерриториальных группировок различные поколения и гендерные группы в большей или меньшей мере предрасположены к отдельным формам заболеваний. При этом у представителей каждого возрастного периода можно выделить определенный набор наиболее характерных для данной территории заболеваний. В результате этнотерриториаль-ные группы населения можно охарактеризовать за определенный период среднестатистическим соотношением практически здоровых людей и больных острыми и хроническими болезнями, а также числом родившихся и умерших.
Поскольку здоровье этноса – процесс исторический, то для его понимания большое значение имеет знание о традиционных условиях жизни населения и народной медицине. В Карелии долгие годы роль народной медицины была особенно велика. Социально-экономические и природные условия края всегда были достаточно непростыми. По данным 1913 года, общая смертность в Олонецкой губернии составляла 30,2 человека на 1 тыс. населения, особенно велика была детская смертность: каждый третий ребенок умирал на первом году жизни, до пятилетнего возраста доживали лишь около половины. Наиболее распространенными среди населения края были желудочно-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, туберкулез, кожные болезни; время от времени наблюдались эпидемии оспы, тифа и даже холеры. Следует отметить, что в этих условиях еще в начале ХХ века для большинства карельского населения квалифицированная медицинская помощь была недоступна. В 1913 году на обширной территории с неразвитой транспортной сетью действовали 13 больниц и 87 фельдшерских пунктов с 24 врачами и 147 работниками среднего медицинского персонала. Даже на самый густонаселенный и обустроенный Олонецкий уезд площадью 2800 кв. верст со 140 селениями приходились 3 врача (по 16 497 жителей на врача), 19 фельдшеров и 6 повивальных бабок. Еще хуже обстояло дело в Беломорской Карелии, относившейся к Архангельской губернии [13]. Поэтому вплоть до начала XX века населению приходилось пользоваться преимущественно средствами самолечения и врачевания, унаследованными от предшествующих поколений, или обращаться за помощью к знахарям [3].
Накопленный за многие тысячи лет рациональный народный опыт врачевания и самолечения (например, лечебные травы, баня, массаж и др.) органично переплетался с иррациональными магическими атрибутами (амулеты, заговоры и т. п.). Например, в одной из новгородских берестяных грамот можно найти заговор на карельском языке о «божьей стреле» – «юмалан нуо-ли», под которой подразумевается либо молния, либо ее «окаменевшее» воплощение, использовавшееся для лечения многие столетия, вплоть до середины ХХ века. Исключительно важную роль в карельской знахарской практике играла вербальная магия, основу которой составляла высокоразвитая и высокохудожественная магическая поэзия – заговоры и заклинания, имевшие еще сто лет назад поистине массовое распространение. При этом карелы широко применяли и весьма развитую традиционную технику врачевания, и довольно солидный арсенал различных лекарств растительного, животного и минерального происхождения [11].
Как считают исследователи, медицинская культура каждого народа компенсирует возникающие нарушения физического и психического здоровья и обеспечивает необходимую для существования этнотерриториальной группы продолжительность жизни людей. Тем самым она может рассматриваться как один из социокультурных механизмов адаптации человека к окружающей среде [9] и поэтому объективно требует поддержки. Однако начиная с 1920–30-х годов отношение к народным средствам и способам лечения у коренного населения в Карелии стало резко меняться. С одной стороны, это было связано с развитием народного образования и здравоохранения, которые принесли элементы сани- тарных знаний и подорвали веру людей в целителей. Вместе с тем в обществе велась непримиримая идеологическая борьба против религии и знахарства как одной из форм ее проявления, которая формировала (в первую очередь у молодых людей) представление о традиционном врачевании как занятии вредном, антиобщественном и даже преступном. В результате количество целителей и их пациентов в крае резко сократилось. В настоящее время большинство народных средств лечения у карелов, в сущности, остались в прошлом. О некоторых из них знают лишь женщины пожилого возраста, которые тем не менее предпочитают лечиться в медицинских учреждениях. Изредка в быту применяются обереги и некоторые другие магические средства. Сама же народная медицина как институт комплексного врачевания, где лечению подвергался весь человек в целом, а не только его больное место или болезни, ушла в прошлое. Между тем народная медицина как особый институт, как фактор, влияющий на состояние здоровья этнической группы, далеко не утратила своего сущностного значения. Она входит в число средств оптимальной формы жизнедеятельности, которые этническая группа вырабатывает за длительный период адаптации к особенностям климата, питания, инфекций. Не все эти средства носят сугубо медицинский характер. Например, для здоровья имеет большое значение трудовое поведение членов этнических сообществ. Исследования свидетельствуют, что потеря работы, статус безработного четко коррелируют с повышенной заболеваемостью. Конечно, современное трудовое поведение членов этнических сообществ все больше отражает некую общую социальную установку: желание преуспеть в жизни, обеспечить себя, свое потомство, достичь определенных жизненных благ, исполнить определенную социальную миссию, на понимание которой этническая принадлежность оказывает все меньшее влияние. Однако в условиях нынешней рыночной экономики этническая солидарность используется чаще как дополнительный механизм для более успешной адаптации к рыночным отношениям. Поэтому она более выражена у народов, которые сталкиваются с теми или иными ограничениями в своей самореализации. Как считают исследователи, этническая солидарность в условиях рыночной трансформации сыграла роль особого механизма, который ускорил и облегчил доступ различных этносов к экономической активности, к власти и ресурсам, а значит, отразился на статусе здоровья и благополучия [18].
Этничность оказывает положительное влияние на здоровье через фактор стабильности семьи, которая одновременно влияет и на воспроизводство этничности [19]. Распад семьи в несколько раз увеличивает показатель заболеваемости супругов уже в первый год после развода.
Дети разведенных родителей чувствуют себя менее здоровыми, чем выросшие в прочных семьях. Исследования роли социально-экономических условий в физическом развитии детей показывают, что наибольшее влияние на ростовые процессы детей оказывает семейный способ приготовления пищи, а на их смертность – уровень образования матери [9].
Эти и другие аспекты влияния этничности на здоровье деманстрируют, насколько важным является дальнейшее изучение данной темы. Глубокое изучение и осмысление роли традиционной медицины позволит лучше выявить связь здоровья с географической средой обитания, экологическими и биогеографическими особенностями народов. Учет среды обитания этноса может помочь точнее определять причины возникновения региональных заболеваний и специфические для этой местности гигиенические традиции и лечебные средства – все, что формирует психические и физиологические различия адаптации этнических групп различных регионов.
Необходимо учитывать этничность в практической медицине. Этничность и культура могут влиять на оценку субъективного опыта болезни, а качество жизни, боль, норма могут дифференцироваться в различных группах, в результате чего сами эти группы различаются по частоте, длительности и тяжести однотипных заболеваний. В то время как многие средства исследования здоровья адаптированы как инвариантные для разных культур, проблема изучения этнич-ности обнаруживает необходимость их более детального разграничения. Это особенно очевидно при идентификации инфекционных или психических заболеваний.
В сфере управления здоровья следует обратить внимание на то, что состояние здоровья населения регулируется в соответствии с определенными представлениями и эталонными образцами, имеющими сугубо национальную (или этническую) специфику. Они составляют определенный уровень системы регуляции, где в качестве регуляторов выступают национальные образы и этнические стереотипы, которые условно могут быть объединены в «локальные» эталоны здоровья конкретных национальных или этнических групп.
Список литературы Этничность и здоровье
- Арутюнян Ю. В. Русский этнос: демографические изменения и востребованность межэтнической интеграции//Социологические исследования. 2010. № 12. С. 42-48.
- Барсов E. B. Черты к психологии Олонецкого народа: язык, пословицы, заговоры//Олонецкие губернские ведомости. 1867. № 10. С. 13.
- Виноградова С. В. Образ здоровья и болезни в культуре русского этноса. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2006.
- Виноградова С. В. Этнические проблема здоровья и болезни как предмет исследований в социологии медицины: Автореф. дисс. … канд. социол. наук. Волгоград, 2007.
- Гомбоева Н. Г. Адаптированность коренного населения к региону проживания [Электронный ресурс]. Режим досту-па: http://www.sibcity.ru/index.php?news=369_64&line=2
- Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. 544 с.
- Казначеев В. П. Очерки теории и практики экологии человека. М.: Наука, 1983. 260 с.
- Кураев Г. А., Пожарская Е. Н. Этнические особенности традиционной медицинской культуры//Валеология. 1999. № 3. С. 4-11.
- Неравенство и смертность в России: Коллективная монография/Под ред. В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малевой. М.: Сигналь, 2000. 107 с.
- Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vottovaara.ru/karelia/obrad/med.html
- Нилов В. М. Социология здоровья этноса//Север. 2007. № 5-6. С. 145-151.
- Очерки истории Карелии. Т. 1. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1957.
- Проект «Социальные изменения и здоровье финно-угорских народов Республики Карелия», финансируемый РГНФ, № 05-03-33940. Науч. руководитель В. М. Нилов.
- Соколовский С. В. Понятия «этническое меньшинство» и «малочисленный народ» в социальных науках//Этнокогнитология: подходы к изучению этнической идентификации. Вып. 1. М., 1994. С. 27-28.
- Сусоколов А. А. Структурные факторы самоорганизации этноса//Расы и народы. Вып. 20. М.: Наука, 1990. С. 5-39.
- Татков О. В. Социальные аспекты адаптации россиян (Здоровье жителей России как национальная идея)//Еlectron's scientifi c seminar [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elektron2000.com/tatkov_0051.html
- Тишков В. Рыночная экономика и этническая среда//Общество и экономика. 2005. № 12. С. 20-37.
- Уш а к о в Д. А. Роль семьи в воспроизводстве этничности народов Республики Алтай//Социологические исследова-ния. 2009. № 3. С. 101-108.
- Шабунова А. А. Здоровье населения в России: состояние и динамика. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 408 с.
- Cockerham W. C. Health and Social Change in Russia and Eastern Europe. New York; London: Routledge, 1999. 284 p.
- Race, Ethnicity, and the Health of Americans. Sydney S. Spivack Program in applied social research and social policy. ASA Series on how race and ethnicity matter. July, 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.asanet.org/images/research/docs/pdf/race_ethnicity_health.pdf