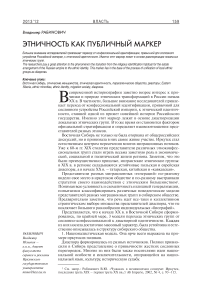Этничность как публичный маркер
Автор: Рабинович Владимир Юльевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Большое внимание исследователей привлекает переход от конфессиональной идентификации, привычной для сословного устройства Российской империи, к этнической идентичности. Именно этот маркер лежит в основе диаспоризации локальных этнических групп.
Короткий адрес: https://sciup.org/170166767
IDR: 170166767
Текст научной статьи Этничность как публичный маркер
В современной историографии заметно возрос интерес к при -чинам и природе этнических трансформаций в России начала ХХ в. В частности, большое внимание исследователей привле-кает переход от конфессиональной идентификации, привычной для сословного устройства Российской империи, к этнической идентич-ности, ставшей одной из примет новейшей истории Российского государства. Именно этот маркер лежит в основе диаспоризации локальных этнических групп. В то же время он становится фактором официальной стратификации и определяет взаимоотношения пред ставителей разных этносов.
Восточная Сибирь не только не была оторвана от общероссийских дискуссий, но и принимала в них самое живое участие. Иркутск стал естественным центром пересечения многих миграционных потоков. Уже к 60-м гг. XIX столетия представители различных этноконфес-сиональных групп стали играть весьма заметную роль в экономиче -ской, социальной и политической жизни региона. Заметим, что это были преимущественно пришлые, мигрантские этнические группы: в XIX в. в регионе складываются устойчивые польская и еврейская диаспоры, а в начале ХХ в. — татарская, китайская и «кавказская».
Представители разных миграционных «генераций» по-разному видели свое место в иркутском обществе и по разному выстраивали стратегии своего взаимодействия с этническим большинством1. Понимая всю условность и схематичность излишней генерализации, попытаемся классифицировать различные поведенческие модели представителей разных миграционных групп в сибирском обществе. Предварительно заметим, что речь идет все таки о коллективном стратегическом выборе множества представителей диаспоры, что не исключает большого разнообразия индивидуальных «биографий».
Представляется, что к началу ХХ в. в Восточной Сибири сформи ровались, по крайней мере, 3 модели перехода этнических групп от сословно-конфессиональной к диаспорной идентичности. Каждая из них носила достаточно массовый характер, была устойчива и есте ственно вписывалась в структуру сибирского общества.
-
1. Националистическая модель. Она ярче всего выражена на при -мере иркутских поляков.
-
2. Религиозная модель. Основным источником формирования татарского сообщества в Восточной Сибири стала массовая аграрная колонизация начала ХХ столе-тия1.
-
3. Диаспорная модель. Ранее уже отмечалось, что иркутские евреи демонстрируют свойство типичного предпринимательского меньшинства. В Иркутске создается полноценная еврейская диаспора, принадлежность к которой становится основой индивидуальной идентичности ее членов2.
Диаспора формировалась из разных источников. Поляки привно-сили в Сибирь представление о привычности жестких сословных перегородок. Многие из них были также носителями идеи нацио-нальной особости и исключительности, опирающейся на нацио нальный язык, культуру, историческую судьбу.
Не последнюю роль в положении сибирских поляков сыграло наличие большого числа польских дворян, ставших частью местной элиты. Наряду со ссыльными шляхтичами, в Иркутске жили польские чиновники, которые делали карьеру в сибирских провинциях, обходя тем самым многочисленные рогатки, мешающие увеличению их доли в государственном аппарате Европейской России. Благодаря заметному участию в восстаниях католических кругов, диаспора не испытывала недостатка и в кадрах священников. Иркутск был столицей крупнейшей католической епархии, что позволяло диаспоре жить полноценной духовной жизнью. Таким образом, уже в 30-х гг. XIX в. в Иркутске сложилась развитое польское сообщество. Важной отличительной чертой диаспоры был ее всесословный характер, что позволило полякам вести полноценную социальную жизнь.
Отметим, что правительство стремилось создать особое польское (как и особое еврейское, и особое «кавказское») законодательство, что, впрочем, вполне соответствовало логике сословного государства. Это законодательство носило в значительной мере ограничительный характер, но анализ профессионального состава иркутской диаспоры по переписи 1897 г. показывает наличие представителей диаспоры практически во всех профессиональных группах в тех же пропорциях, что и в национальных анклавах. Таким образом, иркутские поляки, будучи в значительной мере интегрированными в иркутский социум, сохраняют, тем не менее, этническую самобытность и особость, но при этом не создают единое диаспоральное пространство.
Татары-мигранты, как правило, не владели или плохо владели русским языком, что наряду с низким образовательным уровнем и почти полным отсутствием татарской интеллигенции становилось непреодолимой преградой на пути интеграции в принимающее общество. В то же время власти поощряли компактное расселение татар в регионе. В Восточной Сибири появляются чисто татарские деревни и целые районы. Центрами таких поселений становятся многочисленные мечети и молитвенные дома. Ислам для сибирских татар сохраняет роль этнического и культурного стержня, определяющего как повседневность, так и групповую идентичность. Заметим, что в жизни сибирских поляков и евреев роль религии гораздо менее заметна.
Мы можем говорить о рассеянном, территориально дисперсном характере татарской диаспоры в Восточной Сибири. Важно, что ислам в этой модели выступает именно как этнический маркер. «Татарскость» религиозных учреждений и ритуалов постоянно подчеркивается современниками, в т.ч. и чиновниками.
Существование сибирских евреев во многом определялось наличием особого еврейско-сибирского законодательства, главным принципом которого было высочайше провозглашенное: «Евреев в Сибирь не пускать!». Как результат, наряду с общеимперской чертой оседлости, сибирские евреи были ограничены также чертой персональной оседлости, препятствующей свободному перемещению в крае, и массой других правовых ограничений, действующих только в Зауралье.
Сибирские евреи не только обладали своеобразными чертами, отличающими их от других российских евреев, но и пытались публично осмыслить свою особость. Многие иркутяне становятся постоянными корреспондентами как еврейской, так и общенациональной печати. В 1915 г. появляется уникальное издание «Евреи в Иркутске», ставшее результатом коллективного труда многих представителей диаспоры. Инициаторами издания стали хозяйственное правление Иркутского еврейского молитвенного дома и иркутское отделение Общества для распространения просвещения между евреями России. В сборе материала и в обсуждении конечного текста принимали участие несколько десятков ак тивистов – членов колонии.
Особо следует отметить огромную роль общественного раввина С.Х. Бейлина и купца И. Неймана как в опросе иркутских старожилов, так и в архивной работе, что позволило воссоздать раннюю историю еврейских колоний Восточной Сибири. Журналистам В. Войтинскому и А. Горнштейну была поручена заключительная работа по литературной обработке текста и подготовке его к изданию1.
Описанные модели представляют собой разные способы организации взаимодействия меньшинства с принимающим обществом. Этничность становится несущей основой, определяющей систему межэтнического взаимодействия.
Таким образом, к началу Первой мировой войны, окончательно похоронившей традиционную сословную систему, уже существовал мощный мировоззренческий фундамент, ставший плодотворной почвой для чрезвычайно быстрой трансформации. Военной реальностью стало гигантское число переселенцев и беженцев, ставших новыми жителями российской провинции. Произошло значительное обновление всех диаспор, однако наибольшее демографическое воздействие испытала еврейская диаспора. Наплыв беженцев сломал паритет внутри общины. Большинство новых мигрантов были бедняками, среди них было много сторонников Бунда. Отсюда острое неприятие иркутских «богачей», что в значительной мере подготовило грядущую демократизацию общины. Заметим, что иркутские евреи по своим политическим пристрастиям более склонялись к эсерам и кадетам. Беженцы встретили в Сибири других евреев, не похожих на них. Новоселы приезжали в составе полных семей (дети, старики), что сразу же сломало устоявшуюся демографическую и социальную структуру общины.
Февральская революция завершила процесс разрушения сословного устройства российского социума. Она принесла с собой этническую и социальную эмансипацию; официальную отмену черты оседлости (на самом деле с 1915 г.); отмену запрета для меньшинств на профессии и образование. Для представителей этнических диаспор этничность становится одним из принципиальных стержней, позволяющих выживать в это лихое время. Создается ощущение, что период между Февральской и Октябрьской революциями стал настоящим ренессансом для локальных этнических групп. Однако последующий период Гражданской войны и военного коммунизма был достаточно сумбурен, для того чтобы можно было внятно говорить о каких-либо устойчивых тенденциях в формировании этнической идентичности. Отметим, что появились серьезные академические исследования и этой проблема-тики2.
Этнокультурная политика в 1920-х гг. является отрицанием как этнической практики Российской империи, так и более поздней советской модели. В этот относительно краткий период после окончания Гражданской войны и введения нэпа в небывалой степени возросла возможность исторического выбора различных вариантов развития страны.
Отметим, что в этот период советское государство еще не сформулировало внятную политику по национальному вопросу. Введение классового принципа в национальном вопросе стало главной руководящей идеологемой в этой области. Что привело, в частности, к роспуску всех национальных общин и этнических организаций, находящихся вне политического поля. Однако позднее власти пошли на заметные послабления, разрешив подконтрольную деятельность для ряда этнических организаций, в т.ч. и зарубежных.
Основным органом советской власти для проведения национальной политики на местах становятся национальные отделы при губисполкомах. Ведущую роль в формировании этнической политики, безусловно, играли партийные органы. Первоначально при РКП были созданы различные национальные секции, которые позднее были преобразованы в национальные подотделы отделов по делам национальностей. Однако достаточно скоро статус этих организаций был значительно понижен: вся национальная работа была сосредоточена в агитационно-пропагандистских (Агитпроп) отделах местных губкомов. После этого преобразования работа национальных секций сводилась исключительно к агитации и пропаганде. К 1921 г. из множества национальных секций в Иркутском губкоме (польской, мусульманской, китай- ской, мадьярской, чехословацкой, югославянской, корейской, бурятской, немецкой, латышской, эстонской, еврейской) остается только одна – татарская.
Между тем, этническая картина в Восточной Сибири в этот период разительно изменилась. К этому времени этнический состав иркутских диаспор изменился принципиально. Война с Польшей и последующие правительственные соглашения приводят, по сути, к исчезновению польской диаспоры в Сибири. Многие семьи коренных иркутских евреев или сгинули в лихолетье, или эмигрировали в Харбин и далее. Их место занимают новые мигранты.
Значительно обновилась татарская диаспора. Голод в Поволжье дал новую волну массовых миграций в Сибирь, но при этом татары-мусульмане активно привлекаются к работе на различных объектах, например на черемховских угольных шахтах и на железной дороге. Важно, что в 1920-х гг. появляется и татарская интеллигенция, с которой большевики ведут достаточно активную классовую борьбу1.
В начале 20-х гг. местные власти активно выстраивали свои взаимоотношения лишь с двумя этническими группами: татарами и евреями. При этом новым властям приходилось решать разные задачи. Большевики столкнулись с явной нехваткой кадров, способных вести агитацию и пропаганду на национальном языке. Это стало чрезвычайным затруднением, особенно при работе в татарских районах. Тем более что татары оказались политически индифферентными, и их скорее волновало собственное экономическое положение, нежели классовые заботы. Реальное влияние на татар имели представители национальной интеллигенции, имеющие, как правило, высокий уровень образования (чаще всего полученноего в Уфе), религиозные и явно не разделяющие политические взгляды властей.
Работа с еврейской диаспорой имела иную направленность. Падение царизма вызвало на «еврейской улице» неоднозначную реакцию. Вопрос политической идентификации встал перед российскими евреями весьма остро. Тем более что диаспора была политически активна.
В марте 1918 г. была основана Еврейская секция партии РКП(б). Она изначально превращается в альтернативу традиционной религиозной общины. В частности, через евсекции проходит вся благотворительная помощь старикам и нуждающимся членам еврейских колоний.
20-е гг. стали периодом огромной социальной мобильности, что не могло не отразиться на месте еврейских общин в социально-экономической структуре общества. Значительную роль в этом процессе сыграл массовый отказ царских чиновников от сотрудничества с большевиками, что заставило власти активно привлекать евреев к государственной службе. При этом выдвиженцы пользуются активной административной поддержкой.
В то же время нэп приносит с собой новые ограничения, отразившиеся на судьбах евреев. К ним следует отнести:
-
– деление на трудовое и нетрудовое население; евреи попадают во вторую группу;
-
– жесткий налоговый пресс, который в связи с плохим развитием кооперации маятниково меняется во времени;
– создание института «лишенцев», т.е. лиц, лишенных избирательных прав по должности, происхождению, профессии. Это был сильный институт давления на частников и использовался как инструмент тотального преследования. Лишенцы становятся изгоями, и не случайно среди них оказывается много евреев;
– отход молодежи от религии, чему способствовали и антирелигиозная пропаганда в школе (особенно в национальных школах), и административное давление на еврейские традиции, что отразилось, например, на национальных праздниках.
Констатируем, что уже к середине 20-х гг. властям удалось установить контроль над всеми сторонами жизни этнических меньшинств Восточной Сибири. Несмотря на то что национальная идентичность противоречит интернациональным классовым основам государства, она становится значимым маркером, определяющим повседневное существование советских граждан.
Статья подготовлена в рамках проекта «Политическая модернизация российских регионов: вызовы и риски». Соглашение от 26.07.2012 г. №14.B37.21.0282. Министерство образования и науки РФ, Иркутский государственный университет: Программа стратегического развития. Проект Р 222-МИ-006.