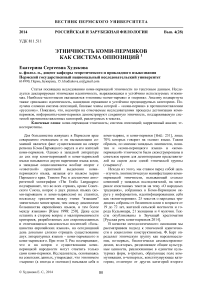Этничность коми-пермяков как система оппозиций
Автор: Худякова Екатерина Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию коми-пермяцкой этничности по текстовым данным. Исследуется декларируемая этническая идентичность, выражающаяся в устойчиво используемых этнонимах. Наиболее частотными оказываются этнонимы «коми-пермяк» и «пермяк». Анализу подвергнута также «реальная» идентичность, нашедшая отражение в устойчиво предицируемых категориях. Получена сложная система оппозиций, базовые члены которой - «коми-пермяк» в противопоставлении «русскому». Показано, что, несмотря на отмечаемые исследователями процессы деэтнизации коми-пермяков, информанты-коми-пермяки демонстрируют сохранную этничность, поддерживаемую системой противопоставленных категорий, реализуемых в текстах.
Коми-пермяцкая этничность, система оппозиций, нарративный анализ, этностереотипы
Короткий адрес: https://sciup.org/14729354
IDR: 14729354 | УДК: 811.511
Текст научной статьи Этничность коми-пермяков как система оппозиций
Для большинства живущих в Пермском крае совершенно очевидным и не вызывающим сомнений является факт существования на севере региона Коми-Пермяцкого округа и его жителей коми-пермяков. Однако в западной литературе до сих пор коми-пермяцкий и коми-зырянский языки называются двумя наречиями языка коми, а западные социолингвисты вообще спорят с «советской» практикой выделения коми-пермяцкого языка, называя его языком зырян Пермского края. Тимоти Рис в достаточно авторитетной монографии «The Uralic Languages» подчеркивает, что во всех странах, кроме Советского Союза, вопрос о двух разных языках (коми-пермяцком и коми-зырянском) не ставится, поскольку «различия между этими “языками” значительно менее яркие, чем между диалектами большинства европейских языков, и тем более между языками» [Riese 1998: 250]. Даже если оставить в стороне вопрос о малоприменимости критериев, разработанных для старописьменных и отличающихся массовостью носителей «большинства европейских языков», на сегодняшний день довольно сложно отрицать существование двух литературных языков – коми-пермяцкого и коми-зырянского. При этом Т. Рис подчеркивает, что и на вопрос о существовании коми-пермяцкой народности могут ответить только сами коми-пермяки. Исследователь, основываясь на советских данных, утверждает, что этнонимом «зыряне» (а иногда и «вотяки») называли себя и коми-зыряне, и коми-пермяки [ibid.: 251], лишь 70% которых говорит на «коми» языке. Таким образом, по мнению западных лингвистов, понятия и «коми-пермяцкого языка» и «коми-пермяцкой» этничности были сконструированы в советское время для дезинтеграции представителей на самом деле одной этнической группы («зыряне»)2.
Исходя из этого, мы ставим перед собой цель – изучить лингвистическую манифестацию коми-пермяцкой этничности, вызывающей столько сомнений у западных исследователей, на материале спонтанных текстов на тему «О народных традициях», собранных в Коми-Пермяцком округе у информантов, идентифицировавших себя как «коми-пермяки». 25 текстов о народных традициях собраны от билингвов-коми в возрасте от 19 до 72 лет, жителей сельской местности и города Кудымкара, 21 женщины и 4 мужчин. Тексты опубликованы в Звучащей хрестоматии [Русская речь коми-пермяков 2014].
В качестве методологического основания мы рассматриваем подход к этнической идентичности в социологии конструктивизма. Ф. Барт определяет этническую группу как народонаселение, во-первых, биологически самовоспроизво-димое, во-вторых, разделяющее общие культурные ценности, реализованные в единстве культурных форм, в-третьих, образующее поле коммуникации, в-четвертых, конституирующее категорию, отличную от других категорий второго порядка (отличает «себя» от «чужих») [Барт 2006: 11]. Нас будет интересовать именно четвертый пункт, который предполагает, что для себя и других этничность – это система оппозиций, дифференцирующих представителей одной этнической группы от представителей другой.
Традиционно выделяются следующие типы идентичностей: декларируемая (в нашем случае соотносится с пропозицией «я есть некто», – она вербализуема и предикативна и сближается с номинальной, называемой), субъективная (реалистическая) и отдельно – идентификация (как деятельность наблюдателя) [Vrian 2001: 2224]. Реальная идентичность как самоконст-руирование связана с речевыми процедурами категоризации: «Все, что субъект говорит другому, он говорит и самому себе. Посредством общения с другими человек создает у себя самого такие же позиции, которые он желает видеть у других или которые у них возникают сами благодаря применению общих значимых символов» [Абельс 2009: 13].
Для изучения идентичности важно определить набор социальных и личностных категорий, которые становятся вписанными в структуру личности [Turner 1988: 113]. Исследование данных категорий предполагает экспериментальные методики по их «исчислению», а также построение иерархии категорий для выявления идентифицирующих и дифференцирующих категорий.
Идентичности социально или культурно поддерживаемы: по мнению Криса Видона, «институты производят дискурсы, в которых гендерная или этническая идентичность конструируется». В дискурсах предлагаются рационализированные категории, в которые индивид может (и должен) вписать себя, а любое социальное действие уже есть выражение идентичности [Weedon 2004: 13].
Для определения общих идентичностных ориентаций используется метод интервьюирования: предлагается спонтанный монолог на тему «О себе». Данный жанр предполагает реализацию автобиографического нарратива. Нарратив в социальной психологии [Giddens 1991: 24] признается способом конструирования идентичности – самоозначиванием [Bruner 2003: 31]. Нами уже были апробированы методики анализа идентичности (религиозной и этнической) на материале нарративных текстов: идентичность конструируется на уровне деклараций (уровне пропозиций «Я есть некто), на уровне категоризации (типы когнитивных действий), на уровне отбора и структурирования текстовых блоков, которые показывают: а) предметное заполнение когнитивного пространства (соотносится с содержательным компонентом идентичности); б) оценочные компоненты, устойчиво приписываемые данным компонентом (соответствует ценностно-нормативному компоненту идентичности), и в) личностное время, которое фиксируется в виде образа прошлого и образа будущего (и в целом отбором временных характеристик).
Таким образом, методом нашего исследования становится традиционный филологический анализ нарратива, в лингвистическом смысле предполагающий выделение частотных реализаций какой-либо категории и пропозициональный анализ высказываний, содержащих эти категории.
В Коми-Пермяцком округе проживает 62% этнических коми-пермяков [Дерябин 1997: 9], в последнее время исследователями отмечается так называемая диаспоризация коми-пермяков – формирование малых этнических групп за пределами материнского региона [Лаллукка 2000: 96]. Самая крупная диаспора коми-пермяков, естественно, сейчас проживает в г. Перми. Однако Коми-Пермяцкий округ, несмотря на быстрый отток населения, до сих пор остается самым мощным по титульному этническому составу округом из всех финно-угорских округов и республик на территории России (например, в Республике Коми состав титульной нации составляет около 40% населения).
Этничность складывается из нескольких компонентов: чувства принадлежности к этносу, установок на действия по отношению к своему и другим этносам и представлений о своем и чужих этносах [Орехова 2006: 24]. Исследователи отмечают деэтнизацию коми-пермяцкого населения; так, «ориентация на общероссийскую гражданскую идентичность среди коми-пермяков неуклонно усиливается» [Шабаев 2006: 69]: 48,6% коми-пермяков отметили ориентацию и на окружную, и на российскую этничность, 42,5% – только на гражданскую и лишь 2,7% – на коми-пермяцкую. С середины XX в. начинается медленный, но неуклонный отток населения Коми-Пермяцкого округа (в двухтысячные за год округ покидало около 1–1,5% населения), этот процесс поддерживается старением населения и явным демографическим кризисом в округе. Этнические установки также безрадостны: 90% студентов, по данным Ю. П. Шабаева, хотели бы покинуть округ, эта тенденция поддерживается установками их родителей, одобряющих отъезд детей из округа [там же]. Низкую этническую лояльность демонстрируют коми-пермяки, называющие в основном отрицательные этностереотипы – низкий культурный уровень (23,5% информантов В. С. Дерябина), пьянство и грубость (17,5% информантов-коми-пермяков), отсутствие чувства собственного достоинства (14,5% информантов), непредприимчивость (8,4% информантов) и леность (3,9%) [Дерябин 1997: 15].
По данным Ю. П. Шабаева, 52,2% коми-пермяков назвали родным языком русский. Тем не менее большинство и городских, и сельских коми-пермяков понимают коми-пермяцкую речь, однако не умеют читать по-коми-пермяцки уже 51,5% городских и 35% сельских коми-пермяков, письменностью не владеют 65,2% городских и 45,5% сельских коми-пермяков [Шабаев 2006: 68]. Молодые знают коми-пермяцкий литературный язык значительно хуже представителей старшего поколения, что связано и с предпочтением обучения в русской, а не национальной школе, и с непрестижностью коми-пермяцкого литературного языка. Среди детей билингвизм уже редок: лишь 18,4% детей свободно говорят по-коми-пермяцки, а 29,3% детей совсем не владеют коми-пермяцким языком [Дерябин 1997: 13]. По данным В. С. Дерябина (несколько устаревшим), коми-пермяцкий язык остается языком семейного общения, в рабочей обстановке его продолжают использовать лишь 40% сельских жителей (и 4% городских) [там же: 10]. В связи с фактором «возраст» можно говорить о динамике монолингвизма (коми-пермяцкий) у самых старших: коми-пермяцко-русский билингвизм – русско-коми-пермяцкий билингвизм – монолингвизм (русский).
Применяя нарративные методики для анализа текстов, рассмотрим разные компоненты этнической идентичности, декларируемой в текстах.
Пропозиция «Я есть некто» выражает так называемую «декларируемую» идентичность. Реализация данной пропозиции в текстах жителей Коми-Пермяцкого округа позволит определить, насколько прав Тимоти Рис, указывая, что все коми называют себя «зырянами».
Таблица 1
Этнонимы в декларируемой этничности
|
Этноним |
Частота употребления |
|
Коми-пермяк |
27 |
|
Пермяк |
5 |
|
Коми |
2 |
|
Комяк |
1 |
|
Русский коми-пермяк |
1 |
Как видим в табл. 1, зырянами информанты себя не называют, и самой частотной дефиницией этничности является «коми-пермяк», далее с отрывом следуют «пермяк», «коми» и в единичных случаях «комяк» и «русский коми-пермяк». О том, что этничность вполне сложилась, говорят устойчивые конструкции «прилагательное + этноним»: «коми-пермячка истая» (Инф. 13), «коми-пермяк истинный» (Инф. 7, 14), «коренные коми-пермяки» (Инф. 17).
В одном случае коми-пермяцкая этничность даже дифференцирована на южную и северную (кудымкарскую и косинскую) со своими специфическими традициями, что также подтверждает факт сформированности этничности коми-пермяков: Э-э / вот / Кудымкарский район / э-э / и Косинский район / я вот / щас могу сравнивать // Там я двадцать пять лет жил / тут / пять лет живу // Вот / и-и / родился я здесь тоже // Н-н там / э-э / конечно / э / о-о / своеобразие / у-у / северных коми-пермяков / и-и / южных коми-пермяков / разное своё это / блюда // (Инф. 10).
Декларируемая идентичность проявляется также в противопоставлении своей этнической группы иным. Противопоставляют себя коми-пермяки коми-зырянам (Но этот / э-э это не-е / коми-пермяцкая свадьба / а настоящая русская свадьба была // Поэтому // Хоть и там коми-зыряне // (Инф. 1)), татарам (Раньше отмечали ещё / праздник / первой борозды-ы // Сабантуй // У татар называется // У нас / просто называ- ется / праздник / хлеборобов / посвящённый завершению / весеннего сева // (Инф. 3)) и, конечно, русским. Оппозиция «коми-пермяки – русские» достаточно сложна: в 5 случаях оппозиция снимается, утверждается, что теперь у коми-пермяков «все, как у русских»: Ну свадьбы отмечаются обычно так же / как и-и / у русских // Обрусели уже можно сказать видимо // (Инф. 1); Не знаю / всё так же как у русских наверно // (Инф. 24).
В одном случае оппозиция также снимается, но сильным членом оказывается коми-пермяцкая этничность: То есть э-э / все русские которые раньше / м-м э-э / приезжали / в коми-пермяцкие деревни / они / э-э о- / опермячивались // (Инф. 10), однако подчеркивается, что это происходило в прошлом.
Усложняется эта оппозиция включением других компонентов идентичности личности – в двух текстах пожилых информантов оппозиция снимается за счет добавления «советской» идентичности (коми-пермяцкий + русский = советский): Праздники / мы отмечали / все советские (смех) // Все советские // И-и / отмечали / э / так / как отмечают их русские // (Инф. 2).
В одном случае оппозиция снимается за счет реализации не этнической, а национальной идентичности: Праздники-и э-э / я отмечаю / такие / общие народные / которые весь народ отмечает // (Инф. 11).
Еще в двух случаях оппозиция снимается за счет введения надэтнической идентичности – религиозной, поскольку православие объединяет и коми-пермяков, и русских: Всё п- / по-русским обычаям делается // Ну-у / обряд христианский он по-моему у всех н- / национальностей православных / примерно одинаков // (Инф. 3).
Далее рассмотрим реальную идентичность, которая, по Ф. Барту, реализуется в устойчиво предицируемых базовой идентичности категориях. Категории реализуются лексемами из одного семантического поля, поэтому по сути анализ категорий представляет собой семантический анализ лексем, предицируемых базовым лексемам «коми-пермяк» и «русский».
Оппозиция «коми-пермяк vs русский» поддерживается включением следующих компонентов пропорций: коми-пермяки – это деревня, а русские – это город. Оппозиция может расширяться и дополняться членами: деревенский – это еще и религиозный, а городской – неверующий. Далее сетка категорий «коми-пермяцкий» есть «деревенский» может расширяться компонентом «старый» (особенно у молодых информантов): Вот это первое / что я запомнила // Потом // Вот чем отличалась / от городских // (Инф. 2); Н-ну у меня / братья в деревне живут // Вот эт(о) / отчим // И-и… // Ну / езжу в деревню // К дедушке // С дедушкой разговариваю на коми // У нас там все по-коми разговаривают // (Инф. 22). Этот компонент, в свою очередь, может оцениваться как «хороший» и «правильный» в противоположность «современному» и «неправильно- му» (см. табл. 2). Коми-пермяцки-деревенскому может приписываться и характеристика «пьянство», однако в двух текстах информантов старше 50 лет старой деревне в противоположность современной деревне, наоборот, прилагается характеристика «трезвость». В одном тексте к категориям «коми-пермяцкий» – «деревенский» – «старый» добавлена категория «языческий», а «русский» – «городской» – «современный» – соответственно, «христианский».
В целом, взаимодействие религиозной и этнической идентичностей у коми-пермяков весьма сложное – женщины устойчиво связывают эт-ничность и православие, тогда как 2 мужчины и 1 женщина (все – старшей возрастной группы) связывают коми-пермяцкую этничность и язычество в противоположность русской этничности и христианству (а в статье А. Леете и П. Кооса указывается только связь коми этничности и христианства [Leete, Koosa 2012: 173]): А-a о вот / по христианским / традициям / э русские / которые э / не знают этот обычай / они как-то / о- / относятся к этому / что вроде / человек умер там / плакать надо тн-н / э-э / вроде это / э // Э / а тут поют / м-м это вроде то что-о / какая-то крамо-ола такая-то // То ес(т)ь э-э / э и-и / по христианским традициям / ведь тоже как бы это / э-э м-м / не следует как бы / поминать э / души умерших / потому что они уходят / или в рай / или ад / э / э / мы же не знаем // А мы точно знаем // Что наши родственники / с этого света уходят э-э / в другой свет // (Инф. 10).
Таблица 2
|
Коми-пермяцкий |
Русский |
||||||||
|
деревенский |
10 |
городской |
7 |
||||||
|
деревенский |
религиозный |
3 |
городской |
неверующий |
2 |
||||
|
деревенский |
старый |
5 |
городской |
современный |
1 |
||||
|
деревенский |
старый |
хороший |
1 |
городской |
современный |
плохой |
1 |
||
|
деревенский |
пьянство |
3 |
городской |
современный |
христианский |
1 |
|||
|
деревенский |
старый |
трезвый |
2 |
христианский |
1 |
||||
|
деревенский |
старый |
языческий |
1 |
||||||
|
языческий |
3 |
||||||||
Оппозиции категорий, составляющих коми-пермяцкую этничность 3
Интересно, что в социально-психологических исследованиях, посвященных этничности, она формулируется в виде определений, устойчиво приписываемых какому-либо этносу (эндо- или автостереотипы), однако в спонтанных текстах коми-пермяков такие определения качеств этноса даны лишь в двух текстах: Я всегда пишу / а-э / говорю об этом / с гордостью / потому что наш народ / он / уникальный // Это / дети природы // Истинные коми / н-не те которые уже / э-э / в э / процессе ассимиляции утратили какие-то вещи / но вообще / вот такой чистоты / доброты / искренности / желания поделиться последним / я не встречала // (Инф. 7) и (При)чём в обычаях очень много критики // Мы себя / м-м / очен-нь / как бы критикуем / oотносимся очень / критически коми-пермяки к себе относятся // Вот в каждом что-то ы / таком элементе-е / вот / э-э / м-м / находится какая-то шуточная критическая форма // (Инф. 10). В основном же этничность формулируется в нарративе в виде оппозиций с другими категориями.
Наконец, у социологов не вызывает сомнений роль языка в поддержании этничности. В исследуемых текстах коми-пермяцкий язык также встраивается в оппозицию с русским языком и поддерживается практически теми же категориями, что и коми-пермяцкая этничность: коми-пермяцкий язык – это язык деревни, язык родителей и предков, язык прошлого, русский – это язык города, детей и настоящего. В двух текстах информанты указывают, что в советское время их родители считали коми-пермяцкий язык непрактичным, мешающим социализации ( Ну-у / русский знаю с рождения / потому что разговаривали / как бы родители со мной по-русски // Почему? // Потому что-о / считали что-о / пермяцкий помешает в жизни // (Инф. 13)), молодые информанты своих детей коми-пермяцкому языку также не учат: Есть / маленький ребенок / но-о / по-коми мы не учим // Она у нас ру(сская) // (Инф. 24). При этом информанты социально активные, работающие, в трех текстах отмечают полезность, прагматизм знания коми-пермяцкого языка: Потом мне знание языка очень пригодилось когда я начала работать // Это было то время когда / студентов наших / отправляли в колхоз на картошку // А-а значит / и-и когда с местным населением говоришь вот на родном языке / снимается очень много проблем // А сразу появляется-а / и мешки / и трактора / и всё что хочешь / значит э-э / по-явля(е)тся / м-м / тут же / по / мгновению / и вы/ вс- все проблемы / и сами / исчезают сами по се(б)е / то ес(т)ь / население уже принимало-о / как бы за свою тебя // (Инф. 8).
Таким образом, этничность коми-пермяков у самих коми-пермяков не вызывает сомнений и формируется в проанализированных текстах через сетку противопоставленных или соположен-ных идентичностных категорий, важнейшие из которых – это локальная, возрастная и религиозная идентичность. При этом устойчивое преди-цирование категории «старый» и «деревенский» коми-пермяцкому все-таки показывает процесс деэтнизации коми-пермяков.
Применение структуралистского метода анализа реализации этничности в тексте может быть использовано и для прогнозирования этнических автостереотипов: не заполненные в исследуемых текстах ячейки таблицы этничности вполне могут быть заполнены в других текстах.
Assistant Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University
Список литературы Этничность коми-пермяков как система оппозиций
- Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию/под общ ред. Н. А. Головина и В. В. Козловского. СПб.: Алетейя, 2000. 267 с
- Барт Ф. Введение//Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий: сб. ст./под ред. Ф. Барта; пер. И. Пильщикова. М.: Новое изд-во, 2006. С. 9-48
- Дерябин В. С. Коми-пермяки сегодня: Особенности этнокультурного развития//Исследования по прикладной и неотложной этнологии Института этнологии и антропологии РАН. №102. М., 1997. 22 с
- Лаллукка С. Диаспора. Теоретический и прикладной аспекты (опыт анализа группы российских финно-угров)//СоцИс. 2000. № 7. С. 91-98
- Орехова О. Б. Ценности этничности населения Коми-Пермяцкого округа//Диалог культур и цивилизаций: тезисы Всерос. науч. конф. молодых историков (7; Тобольск). Тобольск: ТГПИ им. Д. И. Менделеева, 2006. С. 23-25
- Русская спонтанная речь коми-пермяков: национальные традиции: звучащая хрестоматия/колл. авт.; науч. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. 112 с
- Шабаев Ю. П. Этносоциальные последствия объединения регионов (Из опыта формирования Пермского края)//СоцИс. 2006. № 3. С. 64-71
- Bruner J. Self-making and world-making//Narrative and Identity: Studies in autobiography, Self and Culture/ed. J. Brockmeier, D. Carbaugh. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins pub., 2003. P. 26-39
- Giddens A. Modernity and Self Identity. Stanford: Stanford University Press, 1991. 264 р. VII-XV
- Hausenberg A.-R. Komi//The Uralic Languages/ed. Daniel Abondolo. L.; N.Y.: Routledge, 1998. P. 305-326
- Leete A., Koosa P. The churches were opened and lots of missionaries arrived: dialogue between komi identity and faith//Folklore. 2012. Vol. 51. P. 171-190. URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol51/(дата обращения: 01.11.2014)
- Riese T. Permian//The Uralic Languages/ed. Daniel Abondolo. L.; N.Y.: Routledge, 1998. P. 249-275
- Turner J. C. Comments on Doise’s Individual and Social Identities in intergroup relations//European Journal of Social Psychology. 1988. Vol. 18. P. 113-116
- Vrian K. Identity: Social Psychological aspects//Concise encyclopedia of sociolinguistics/ed. R. Mesthrie. Oxford, Elsevier, 2001. P. 2216-2219
- Weedon Ch. Identity and Culture: Narratives of difference and belonging. N.Y.: Maidenhead: Open University Press, 2004. 144 p