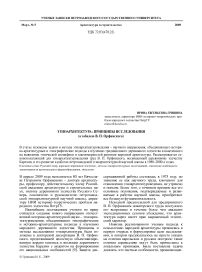Этноархитектура: принципы исследования (к юбилею В. П. Орфинского)
Автор: Гришина Ирина Евгеньевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Архитектура и строительство
Статья в выпуске: 5 (99), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье изложены задачи и методы этноархитектуроведения - научного направления, объединяющего историко-архитектурные и этнографические подходы к изучению традиционного деревянного зодчества и нацеленного на выявление этнической специфики и закономерностей развития народной архитектуры. Рассматривается основополагающий для этноархитектуроведения труд В. П. Орфинского, посвященный деревянному зодчеству Карелии, и его развитие в работах петрозаводской этноархитектурной научной школы в 1980-2000-х годах.
Русский север, народное деревянное зодчество, методы этноархитектурных исследований, этнические особенности, закономерности архитектурного формообразования, типология
Короткий адрес: https://sciup.org/14749564
IDR: 14749564 | УДК: 72.03(470.22)
Текст научной статьи Этноархитектура: принципы исследования (к юбилею В. П. Орфинского)
В апреле 2009 года исполняется 80 лет Вячеславу Петровичу Орфинскому – доктору архитектуры, профессору, действительному члену Российской академии архитектуры и строительных наук, знатоку деревянного зодчества Русского Севера, основателю и руководителю петрозаводской этноархитектурной научной школы, директору НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ.
Важнейшим достижением ученого по праву считается создание нового направления отечественной историко-архитектурной науки – этноархи-тектуроведения, объединившего этнографические и историко-архитектурные подходы к изучению народного деревянного зодчества. Принципы и методы исследования этноархитектуры были изложены в докторской диссертации В. П. Орфин-ского, представившей целостную объективизированную версию генезиса и эволюции деревянного зодчества Карелии с акцентом на формировании его национальных особенностей [9]. Защита дис-
сертационной работы состоялась в 1975 году, но значение ее как научного труда, ключевого для становления этноархитектуроведения, не утрачено и поныне. Более того, с течением времени все его основные положения, подтверждаемые и развиваемые в работах научной школы, приобретают все большую фундаментальность.
Исходной предпосылкой для предпринятого В. П. Орфинским новаторского труда послужило его вызревшее в течение более чем двадцати экспедиционных сезонов убеждение, что архитектура карел имеет ярко выраженный этнический характер.
Новизна реализованного ученым подхода к осмыслению народной архитектуры проявилась в первую очередь в формулировке цели исследования, в котором предполагалось не просто указать на отличия карельских и русских построек: такие отличия справедливо могут быть причислены к локальным признакам. Была поставлена задача доказать, что частные особенности, проявляющие- ся в разных типах сооружений, обусловлены закономерностями исторического развития народа и его национального характера. Наметился и новый путь решения задачи – отказ от «художнических» описаний архитектурного наследия и переход к детальному анализу не столько отдельных памятников, сколько самого процесса их формирования и развития характеризующих этот процесс тенденций, поскольку, как было подтверждено по завершении исследования, в условиях региональной общности именно при сопоставлении таких тенденций определяются отличия соседствующих разноэтничных архитектур.
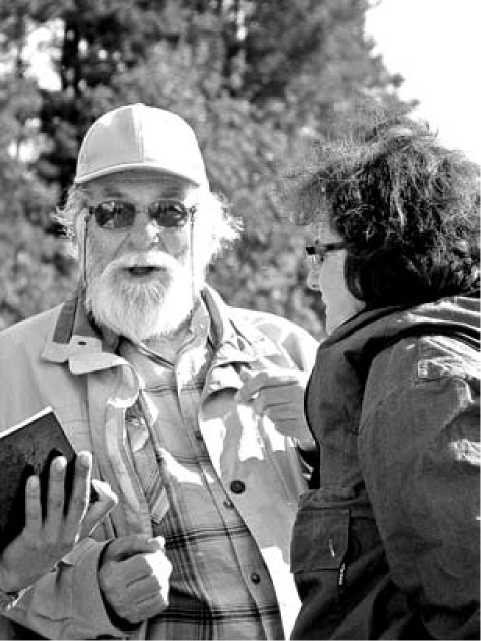
В. П. Орфинский с сотрудниками национального парка «Ке-нозерский». 2008 год, Архангельская область, д. Вершинино
Следует подчеркнуть, что принципиальной установкой при этом стал отказ от рассмотрения исторического наследия с позиций нашего времени, сиюминутных потребностей архитектурной практики, а также эстетических предпочтений исследователей. Единственно возможным путем реализации такой установки представлялась максимальная объективизация исследования, а ядром новой объективизированной методики стала Единая сводная классификация приемов, форм и деталей деревянного зодчества.
Классифицирование к началу 1970-х годов уже достаточно прочно вошло в арсенал методов, применяемых при изучении народного зодчества. Но не удовлетворяли его результаты – малая детали- зация классификаций, созданных предшественниками, приводила к тому, что деревянное зодчество обширнейшего региона – Русского Севера – рассматривалось как этнически однородное явление. Это отражалось даже в этнографических работах, нацеленных на поиски отличительных черт материальной культуры разных народов. Этнографы фиксировали отдельные потенциально этнодифференцирующие характеристики поселений и построек, но только наиболее существенные, с их точки зрения, сознательно отказываясь от «дробных» классификаций [1; 36]. Несколько иная ситуация сложилась в историко-архитектурной науке. В классификации культовых построек М. В. Красовского, а вслед за ним А. В. Ополовни-кова немногочисленные типы указывали на наиболее выразительный признак памятника, играющий ведущую роль в сложении его архитектурного образа [5; 176–177], [8]. При этом сопоставимости типологических признаков не придавалось особого значения. В результате ныне распространенная классификация культовых построек в русском деревянном зодчестве объединяет клетские, шатровые, ярусные, многоглавые и кубоватые храмы в единый типологический ряд, первый и третий члены которого выделены с учетом характера общего объемного решения, а второй, четвертый и пятый – по форме венчания. Те же недостатки присущи классификациям И. В. Маковецкого, посвященным поселениям и жилым домам [6, табл. 65–69].
Стремление к детализации архитектурной классификации за счет удлинения типологического ряда при сохранении прежних подходов не приводило к успеху. Это подтверждает опыт известного финского исследователя деревянного зодчества Ларса Петтерссона, изучавшего культовые постройки Заонежья [22]. Так, часовни он разделил на 24 типа. При этом некоторые типы имели всего по одному представителю, отличаясь друг от друга лишь деталями, другие объединяли разные по объемно-планировочной композиции постройки. В классификации Л. Петтерссона не была определена иерархия признаков, поэтому систематизация остановилась на полпути, хотя специфика материала (объемного, привязанного к значительной территории и напрашивающегося на детальное сопоставление) уже подталкивала исследователя заняться «препарированием» памятников, отказавшись от принятого в истории архитектуры их целостного рассмотрения, направленного на поиски в лучших образцах народного зодчества классической завершенности и соответствия универсальным правилам архитектурной композиции.
Между тем в народном зодчестве воплощены совсем другие принципы. Его развитие, приводившее к созданию совершенных образцов, происходило путем постепенного и относительно независимого преобразования отдельных форм, деталей, узлов, сходного с эволюцией в живой природе. При этом неизменной оставалась опирающаяся на традиции способность к созданию органической целостности разностадиальных элементов и разностилевых заимствований («имманентная эклектика»).
Сегодня, благодаря работам В. П. Орфинско-го, такая характеристика народного зодчества уже не вызывает дискуссий. Однако в начале 1970-х годов ее осознание стало поистине революционным шагом на пути создания нового направления изучения народной архитектуры. Возможность моделировать исследуемые объекты с помощью определенного сочетания признаков и описывать развитие через изменения отдельных объектов в первую очередь реализовалась в разработке типологической системы, построение которой приблизилось к отражению происходивших в архитектурной реальности процессов.
Чем же отличалась созданная типологическая система от разработок предшественников? Прежде всего – многоуровневостью и разветвленностью, позволившими систематизировать необычайно большое число признаков. Она состояла из 38 частных классификаций – от поселений до деталей построек, которые, в свою очередь, включили в себя более мелкие типологические ряды и цепочки, отражавшие многообразие, изменчивость частей и элементов целого.
В то же время типологическая система строилась на представлении автора о деревянном зодчестве как о едином явлении, отдельные элементы которого – жилые, хозяйственные и культовые постройки – обладают эволюционно-генетическим родством, ибо объединены общностью происхождения от клети архаичного жилища и подчиняются общим закономерностям развития. При этом отдельные признаки систематизировались по иерархическому принципу с учетом их роли в формообразовании изучаемых объектов. Все это придало своду классификаций структурную и содержательную целостность, которая противостояла его аналитической дробности, а включение в системное осмысление всего многообразия зодчества Карелии позволило преодолеть свойственную исследованиям предшественников обособленность изучения трех областей архитектурно-строительной деятельности народа – поселений, культовых и жилищно-хозяйственных построек, что привело к более глубокому проникновению в специфику и каждой из них, и народного зодчества в целом.
Типологическая система стала главным итогом первого этноархитектурного исследования, она обладала необходимым для научных классификаций двуединством: использовалась как модель изучаемого явления и одновременно как инструмент такого изучения. С ее помощью за кратчайший срок был переосмыслен весь имеющийся материал, счет анализируемым единицам которого шел на многие сотни.
С тех пор типологическая система неоднократно перерабатывалась автором и его учениками: расширялась и вновь сужалась сфера ее охвата, отражая изменение представлений о степени ее универсальности; разрастались прежние частные классификации, а из отдельных их подразделений формировались новые; яснее и совершеннее становилась структура представления информации. Однако все это оставалось воплощением комплекса тех принципов и идей, которые лежали в основе первой классификационной разработки.
В 1970-е годы детальное классифицирование по первой версии типологической системы позволило В. П. Орфинскому впервые широко применить в историко-архитектурном исследовании статистически-типологический анализ. Были определены ареалы приемов, форм и деталей народного деревянного зодчества на территории Карелии и проведено ее подробное этно-архитектурное зонирование.
Частные вопросы происхождения и развития каждого из исследуемых типов объектов получили новое освещение, а в ряде случаев были разработаны впервые. Так, были выявлены несколько направлений развития форм поселений и высказана новая версия появления уличной формы. Подвергнута сомнению универсальность гипотезы У. Т. Сирелиуса о происхождении домов-комплексов: на территории Карелии были намечены три направления их эволюции, обозначено время зарождения этих эволюционных тенденций, высказано предположение о причинах их различия. Впоследствии детальные исследования подтвердили картину формирования комплексного жилища в Карелии [15].
В области культового зодчества были опровергнуты представления о его единстве в пределах Севера России, об общерегиональном однонаправленном развитии деревянного храмострои-тельства от архаики к классике и от нее – к упадку, об однозначно отрицательных влияниях профессиональной культовой архитектуры на народную храмостроительную традицию. Развитие культового деревянного зодчества Карелии предстало в виде сменяющих друг друга этапов, откликающихся на стилистические переломы в монументальном храмостроительстве. Деревянные культовые постройки в результате внешних влияний до конца ХIХ века не только не теряли, а, напротив, приобретали дополнительные черты своеобразия, синтезируя заимствования с традиционными приемами и формами, а иногда реагировали противоположным образом – подчеркнутой этнизаци-ей, как случилось в культовой архитектуре карел на рубеже ХIХ–ХХ веков. Отдельные яркие признаки этнической специфики деревянных культовых построек – от деталей до взаимодействия с архитектурно-ландшафтным окружением – были отмечены на протяжении всей их истории.
Систематизация культовых построек Карелии, датированных в широких временных пределах – с ХVI до начала ХХ века – позволила выявить на их примере «хронологические ареалы» архитектурных форм. На протяжении четырех столетий прослежена эволюция объемно-планировочных решений, частей и деталей культовых построек. Емким и наглядным способом представления результатов стала «архитектурно-археологическая шкала» для датировки часовен Карелии, с успехом применяемая на практике реставраторами и исследователями деревянного зодчества «в списках» еще до ее первого опубликования в 1999 году [18; 152–159].
В диссертационной работе В. П. Орфинского впервые было истолковано развитие народной архитектуры целого региона. Во многих подобных случаях, несмотря на возможную климатическую, хозяйственную и этническую неоднородность территории, ее общая архитектурная картина отличается неопределенностью и размытостью. Ключом к ее пониманию служат сформулированные В. П. Орфинским положения о том, что эволюционные преобразования проявляются в народном деревянном зодчестве не в сплошной замене одних форм другими, а в постепенном изменении соотношения сосуществующих разностадиальных форм – прототипов и производных, «эмбрионов» и «рудиментов», часто имеющих лишь нюансные, но тем не менее значимые отличия. В относительно узких временных рамках о развитии массовых типов построек можно судить только по определяемым статистически тенденциям к изменению такого соотношения форм. Узость временных границ, в которые укладывается фактический материал, неизбежна при исследовании деревянной архитектуры, но на примере Карелии была показана возможность расширения базы хронологических сопоставлений: из-за неравномерности социальноэкономического развития края, более интенсивного в его южной части, эволюционные изменения форм в направлении с севера на юг оказались сходны со сменой эволюционных этапов во времени.
Среди полученных результатов важное место занял вывод о том, что в условиях региональной архитектурной общности бесперспективно искать «абсолютные» национальные признаки, отсутствующие в зодчестве других народов. Такие признаки всегда относительны и определяются сопоставлением непосредственно соседствующих раз-ноэтничных архитектур, причем сопоставлением не столько конкретных форм, сколько формообразующих тенденций. Относительная «заторможенность» развития архитектуры карел как следствие особой традиционности их материальной и духовной культуры проявилась и в длительном сохранении самобытных черт, и в устойчивости заимствованных русских форм – большей, чем в собственно русском зодчестве. Было выявлено отличительное свойство культуры карел, названное природо-подражательностью (позже – природосообразно-стью), которая оставила свой след в их зодчестве в стремлении к свободной планировке поселений и раскрытости застройки в окружающую среду, в композиционном подчинении культовых построек элементам ландшафта, в приверженности к декоративным формам, интерпретирующим образы природы, в наиболее полном соответствии решений технических и декоративных задач качествам дерева как строительного материала и рациональным приемам его обработки.
Таковы главные результаты первого опыта последовательного проведения принципов этно-архитектуроведения при изучении народного деревянного зодчества. С позиций сегодняшнего дня их можно оценить как систему до сих пор не опровергнутых постулатов нового научного направления, а другие, менее акцентированные в исследовании наблюдения, догадки и идеи, – как блестящее предвосхищение тематики изысканий, развитой в трудах В. П. Орфинского и его учеников в 1980–2000-е годы.
Констатация различий в темпах развития деталей, частей и типов построек, а также целых этноархитектурных зон и регионов вылилась в создание концепции относительной несинхрон-ности эволюции разноэтничных архитектур как первопричины этнической специфики зодчества взаимодействующих народов [12].
Описанные факты возрождения отдельных утраченных тенденций, принципов и форм на новых этапах развития архитектуры сложились в представление о линейно-циклическом характере эволюционных преобразований в народном зодчестве [13], [14].
Давнее осознание важности процессов, происходящих при непосредственном межэтническом взаимодействии в архитектуре, со временем обрело системную стройность. Изучение механизма этнизации архитектурной среды в традиционной культуре показало, что нивелировка национальных характеристик архитектуры при межэтническом взаимодействии полностью не происходит даже при ассимиляции этноса: некоторые субстратные архитектурные признаки на протяжении длительного времени продолжают жить в новой этнокультурной среде. Тем более не размывается своеобразие архитектур соседствующих народов, связанных друг с другом многообразными контактами, но сохраняющих свои языки и этническую специфику. Для национального зодчества межэтнические контакты становились как поводом для актуализации собственного архитектурного наследия, так и причиной творческих поисков, обновляющих арсенал архитектурных приемов, форм и деталей, как правило, с опорой на свои этнические традиции [11].
В процессе межэтнических контактов качественные изменения в зодчестве этноса соотносятся с определенными фазами этнокультурного взаимодействия, а территориальное распределение порожденных ими архитектурных признаков предопределено видом контактной зоны, в которой это взаимодействие разворачивается.
В ситуации активного этнического сопоставления по мере приближения к исторически стабильной границе между этнокультурными ареалами на фоне отторжения внешних влияний усиливается выражение национальной самобытности в архитектуре: происходит консервация и даже архаизация привычных форм, усиление характеристик, основанных на эстетических предпочтениях своего этноса, формируются архитектурные этнические символы.
Углубление культурной интеграции приводит к ассоциативным заимствованиям – раскрытию путем сопоставления с чужой культурой тех или иных достижений культуры собственной. Далее в ситуации этнического компромисса «чужие» архитектурные образцы заимствуются непосредственно, но не воспроизводятся буквально, а при адаптации к «своей» культурной среде перерождаются в новые формы – компромиссные, являющиеся результатом переработки образца и приведения его в соответствие своей системе композиционного и художественно-образного мышления, или в формы-гиперболы, отражающие высокую степень односторонней тенденциозности в межэтническом общении и гипертрофирующие наиболее выразительную часть или признак заимствованного образца. Ситуация этнического компромисса соотносится с расширяющимся взаимопроникновением этнических ареалов и исторически подвижными границами – своеобразными межареальными буферными зонами, где формы-символы этнокультурной интеграции распределены достаточно равномерно по всей территории.
В Карелии межэтническим взаимодействием русского и прибалтийско-финских народов можно объяснить появление высотных шатровых храмов в Прионежье, феномен Преображенского храма в Кижах и зодчества Заонежья, некоторые особенности домов-комплексов и архитектурного декора. Изложенные закономерности развития архитектуры в зонах этнокультурных контактов прослежены также в Республике Коми, Архангельской области, на севере Норвегии. Все это подтверждает, что при определенных условиях этнокультурные контакты стимулируют расцвет национальной архитектуры и обогащают совокупное культурное наследие народов в целом.
В течение многих лет после своего введения в научный оборот главный исследовательский инструмент этноархитектуроведения – типологическая система приемов, форм и деталей деревянного зодчества – продолжает дополняться и совершенствоваться. Опыт ее длительного использования при изучении архитектурного наследия Карелии и сопредельных территорий показал, что типологическая система является надежным алгоритмом, обеспечивающим последовательность, относительную объективность и полноту фиксации характеристик традиционных построек. В частности, с помощью первых вариантов типологической системы в 1979–1980 годах проводилась инвентаризация деревянного зодчества Карелии, когда всего за два полевых сезона было зафиксировано более 5500 традиционных крестьянских построек, то есть значительно больше, чем за все предшествующие годы XX столетия. Для новичка типологическая система служит эффективным обучающим средством, структурирующим разрозненные знания о деревянном зодчестве, для опытного исследователя сравнение реалий с типологическими подразде- лениями дает возможность акцентировать свое внимание в первую очередь на новых, отсутствующих в классификации признаках и их сочетаниях.
Сегодня видоизмененная структура частных классификаций включает до 10 классификационных уровней с вариантами и подвариантами. Помимо каркаса системы – основных типологических подразделений, характеризующих ведущие тенденции в развитии объекта, – классификации включают дополнительные признаки, организованные по открытой схеме с возможностью их дальнейшего накопления. Дополнительные признаки отражают особенности структурных частей и элементов объекта, характеризуя этнические, региональные, местные особенности, включая «почерки» отдельных мастеров или плотницких артелей.
Последние по времени создания типологические структуры – классификации простейших культовых построек, храмов и колоколен – представлены в монографии «Типология деревянного культового зодчества Русского Севера» [16]. Высокая степень формализации в представлении историко-архитектурных данных, которую обеспечивают классификации, дала возможность положить их в основу электронного классификатора – программно-информационного комплекса, включающего инструментальное средство типологического анализа и базу данных атрибутивной, типологической, иконографической и картографической информации об исследуемых объектах. В наиболее полном виде электронный классификатор впервые был разработан для культовых построек [17].
Типологическая система по-прежнему служит главным залогом объективизации исследований народного деревянного зодчества, позволяющей опираться на количественные методы анализа материала. Одновременно с ее использованием в 1980-е годы были разработаны способы математического описания наиболее ярких отличительных признаков карельской архитектуры: существование тенденции к свободной планировке поселений у карел подтверждено с помощью коэффициентов регулярности их объемно-планировочной структуры [21], [7] и графиков восприятия степени замкнутости пространства [2], а отмеченное ранее стремление к обостренности и геометризации форм карельского архитектурного декора описано с помощью коэффициента остроты силуэта [10; 150–151].
Изучение этнических процессов в традиционном зодчестве невозможно без взаимодействия со специалистами в области наук народоведческого цикла. Поэтому более десяти лет назад по инициативе В. П. Орфинского ученые, изучающие язык и культуру народов Карелии, объединились для совместных исследований, начало которым положили комплексные экспедиции, проводимые ежегодно с 1996 года.
Этноархитектуроведение органично находит общие научные интересы с топонимией (выявление этнокультурных субстратов и характера ассимиляционных процессов на различных территори- ях), этнографией (строительная деятельность крестьян и их декоративно-прикладное искусство), искусствоведением (сюжетная живопись, включая иконопись), этномузыковедением (композиционное построение образцов народной музыки и хореографии). Внутреннее созвучие интегрируемых в совместных исследованиях научных дисциплин предопределено особенностями проявления эт-ничности, структурным тождеством исследуемых объектов, отраженным в таких объектах спецификой эстетических предпочтений разноэтничного населения региона или их общей генетической природой, восходящей к концептуальным представлениям человека о пространстве и времени.
Многолетние этноархитектурные наработки научно-методического характера были апробированы и уточнены в ходе выполнения четырех комплексных проектов, реализовавшихся в четырех монографиях, – описании истории, быта и культуры села Суйсарь с ассимилированным людиковским населением, рассмотрении округи собственно карельской деревни Юккогубы, историко-культурном анализе северно-карельской деревни Панозеро, находящейся в русско-карельском порубежье, и, наконец, своеобразной энциклопедии старого Сямозерья – территории, оказавшейся в эпицентре этнокультурных процессов юго-западной Карелии в конце XIX – начале XX века [20], [3], [19], [4].
Деревянное зодчество Карелии не случайно стало полигоном для отработки принципов этно-архитектуроведения. Карелия и сегодня широко известна своими многочисленными памятниками и сохранившимися традиционными деревнями – целостными фрагментами исторической архитектурно-ландшафтной среды. Она выгодно расположена на стыке Восточной и Западной Европы, где межэтнические контакты в прошлом способствовали формированию яркой и многообразной народной культуры. Однако экспедиции последних лет свидетельствуют, что деревянный мир Севера становится все более похожим на археологический объект – безмолвное руинированное свидетельство минувшей эпохи. Все ощутимее угроза полного исчезновения самобытнейшего пласта отечественного историко-архитектурного наследия.
Во многом это связано с распространенной в российском обществе оценкой деревянного зодчества как отжившего, чуждого современности явления. А между тем в цивилизованном мире растет понимание ценности наследия деревянного зодчества как уникального историко-культурного документа. В формах и деталях национальных архитектурных памятников из дерева воплощены не только особенности понимания конструктивной работы этого натурального строительного материала, но и отражены древнейшие представления о взаимодействии природы, общества и человека, сложившиеся в разных культурах. Памятники деревянной архитектуры все активнее аккумулируют вокруг себя деятельность, которая способствует возрождению и развитию этнических традиций, национального самосознания и конкретного патриотизма. Исторические деревянные постройки служат источником идей и образов для той ветви современной архитектуры, которая нацелена на экологическую безупречность, акцентирование национальных культурных приоритетов и выявление «духа места».
Этноархитектуроведение, появившееся в Карелии, с первых дней своего становления заявило о нерасторжимости задач исследования и сохранения наследия деревянного зодчества. И, пожалуй, его самый важный принцип – сделать все возможное, чтобы, говоря словами В. П. Ор-финского, не прервалась нить архитектурной преемственности «на перекрестке между прошлым и будущим».
От всей души поздравляем Вячеслава Петровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, успехов в научной деятельности и талантливых учеников!
Список литературы Этноархитектура: принципы исследования (к юбилею В. П. Орфинского)
- Витов М. В. О классификации поселений//Советская этнография. 1953. № 3.
- Гуляев В. Ф. Количественное описание степени замкнутости архитектурного пространства традиционных сельских поселений//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск: РИО ПГУ, 1988. С. 48-54.
- Деревня Юккогуба и ее округа/Отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 432 с.
- История и культура Сямозерья/Отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 816 с.
- Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Ч. 1. Деревянное зодчество. Пг.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916. 408 с.
- Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища. Север и Верхнее Поволжье. М.: Академия архитектуры СССР, 1962.
- Медведев П. П. Программа «Регулярность» для мини-ЭВМ («Электроника-60») // Советская этнография. 1989. № 2. С. 62-67. (Приложение № 1 к статье: Орфинский В. П. Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера) // Советская этнография. 1989. № 2. С. 55-62.)
- Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. Памятники шатрового типа. Памятники клетского типа и малые архитектурные формы. Памятники ярусного, кубоватого и многоглавого типа. М.: Искусство, 1986. 312 с.
- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дисс. … д-ра архитектуры. Т. 1, 2. М.: ЦНИИТИА, 1975.
- Орфинский В. П. Классификация архитектурно-конструктивных и декоративных деталей деревянного зодчества Русского Севера//Архитектурное наследие и реставрация (Реставрация памятников истории и культуры России): Сб. науч. тр. М.: Росреставрация, 1986. С. 147-151.
- Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архитектуры (на примере Российского Севера)//Проблемы российской архитектурной науки: Сб. науч. тр. членов отделения архитектуры РААСН. М.: РААСН, 1999. С. 78-94.
- Орфинский В. П. Несинхронность эволюционных преобразований как ключ к расшифровке этнической специфики деревянного зодчества Карелии//«Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера. Петрозаводск, 2001. С. 12-14.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционные системы сельского расселения в Карелии//Этнографическое обозрение. 1999. № 6. С. 16-33.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного деревянного зодчества//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 23-37.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве Карелии//Архитектурное наследство. № 44. М., 2001. С. 63-80.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 280 с.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е., Лялля Е. В., Наволоцкий С. В. Электронный классификатор деревянного культового зодчества Русского Севера//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2005. № 1 (38). С. 146-158.
- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений деревянного культового зодчества Карелии//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 147-160.
- Панозеро: сердце Беломорской Карелии/Под ред. А. П. Конкка, В. П. Орфинского. ПетрГУ; Jumikelo-säätiö. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. 448 с.
- Село Суйсарь: история, быт, культура/Под ред. Т. В. Краснопольской, В. П. Орфинского. Петрозаводск, 1997. 296 с.
- Хрол Т. М. Определение количественных характеристик регулярности планировки и застройки сельских поселений//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей: Межвуз. сб. Петрозаводск: РИО ПГУ, 1985. С. 18-22.
- Pettersson L. Äänisniemen kiriollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki, 1950. 242 s.