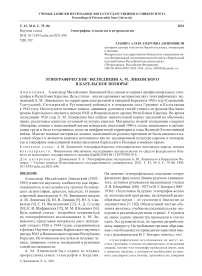Этнографические экспедиции А. М. Линевского в Карельское Поморье
Автор: Джиошвили Эльвира Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 8 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Александр Михайлович Линевский был одним из первых профессиональных этнографов в Республике Карелия. Цель статьи - анализ архивных материалов двух этнографических экспедиций А. М. Линевского: на территорию центральной и северной Карелии в 1926 году (Сорокский, Тунгудский, Сегозерский и Ругозерский районы) и в поморские села Гридино и Калгалакша в 1944 году. Исследуются полевые записи, дневники, рукописи статей ученого из фондов Научного архива Карельского научного центра РАН и Национального архива Республики Карелия. Во время экспедиции 1926 года А. М. Линевским был собран значительный корпус сведений по обычному праву, различным аспектам духовной культуры карелов. Материалы второй экспедиции содержат обширные данные о повседневной жизни поморских поселений 1940-х годов, изменениях в организации труда и быта в отдаленных селах на прифронтовой территории в годы Великой Отечественной войны. Многие полевые материалы данных экспедиций по разным причинам не были введены в научный оборот и являются важным источником как по традиционной культуре карелов и поморов, так и специфике повседневной жизни населения Карельского Поморья в военное время
А. м. линевский, этнография карелии, этнографические экспедиции, карелы, поморы
Короткий адрес: https://sciup.org/147236226
IDR: 147236226 | УДК: 392 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.696
Текст научной статьи Этнографические экспедиции А. М. Линевского в Карельское Поморье
Александр Михайлович Линевский (1902– 1985) известен научному сообществу как первооткрыватель и исследователь группы беломорских петроглифов, археолог, писатель. О жизни и научной деятельности А. М. Линевского писали А. М. Левитина [4], Ю. В. Линник [5], Ю. А. Сав-ватеев [9], С. Н. Филимончик [13], А. Д. Столяр [10], К. В. Шафранская [15], М. М. Шахнович [16]. Цель данной статьи – подробнее остановиться на этнографических исследованиях А. М. Ли-невского, представив материалы двух экспедиций ученого 1926 и 1944 годов, сохранившиеся в фондах Научного архива Карельского научного центра РАН и Национального архива Республики Карелия. Источниками послужили полевые записи, дневники, отчеты экспедиций и рукописи статей исследователя.
А. М. Линевский был одним из первых профессиональных этнографов в Карелии.
Он окончил этнографическое отделение географического факультета Ленинградского университета, которым руководили выдающиеся ученые Л. Я. Штернберг (1861–1927) и В. Г. Богораз (1885– 1936)1. Подготовка будущих этнографов велась по комплексной программе, включавшей разнообразные науки – от геологии и биологии до лингвистики [1: 130]. Обязательной частью обучения являлись учебно-исследовательские экскурсии в различные регионы страны2. Студенты не менее одного триместра проводили в «поле» одни, без руководителя, по заранее разработанному маршруту. На требование органов образования о необходимости проведения практики вместе с руководителем В. Г. Богораз отвечал, что:
«этнографические исследования не могут вестись группами, а только индивидуально, отдельными лицами, потому что этнографу приходится иметь дело с живыми людьми, с которыми необходимо установить предварительно личные, проникнутые доверием и симпатией, отношения. Появление группы лиц, да еще во главе с руководителем, который стал бы обучать, как производить изучение населения, привело бы к самым печальным результатам. В лучшем случае такая экскурсия превратилась бы в увеселительную прогулку» (цит. по [1: 132–133]).
На первом курсе в 1924 году А. М. Линевского на пять месяцев отправили в Чувашию, где он собирал этнографические материалы и фольклор, проводил археологические работы, устраивал просветительские лекции, создавал первичные краеведческие организации [8]. В связи с партийным лозунгом того времени – «лицом к деревне» – студентов ориентировали на изучение «современного быта… и тех бытовых явлений, которые вымирают безвозвратно или принимают совершенно иную форму»3 в быстро меняющих условиях жизни. По итогам экспедиции в Чувашию вышли первые статьи А. М. Линевского4.
В своих учениках В. Г. Богораз и Л. Я. Штернберг видели не только исследователей языков и традиционной культуры, но и просветителей, организаторов новой жизни на местах. По мнению Н. Б. Вахтина, на таких исследовательских позициях шло строительство этнографической школы в Петрограде – Ленинграде [1: 126].
ЭКСПЕДИЦИЯ В КАРЕЛИЮ 1926 ГОДА
Экспедиция студентов этнографического отделения геофака ЛГУ в Карелию состоялась волей случая: средства правительства Карелии, предназначенные сотруднику этнографического отдела Русского музея профессору Д. А. Золотареву для продолжения экспедиционной работы в Карелии, по ошибке перевели географическому факультету ЛГУ [9: 98–99], [16: 59]. Для урегулирования тяжбы c Д. А. Золотаревым руководство университета командировало А. М. Линевского в Петрозаводск, где он сумел убедить руководство республики выделить часть средств на финансирование студенческой экспедиции [12: 16]. Полагают, что на данное решение повлиял и состав членов экспедиции: в нее входили тверские карелы В. С. Дубов и И. Любимов, вепс С. А. Макарьев [9: 99]. В них, очевидно, видели будущих специалистов для работы в Карелии. Тем более что Д. А. Золотареву обещанные средства на экспедицию в Карелию в 1926 году правительством республики также были выделены5.
Экспедиция продлилась с июня по ноябрь 1926 года и охватила значительную территорию Карелии. А. М. Линевский работал в Паданской и Ругозерской волостях Паданского уезда, в Со-рокской, Тунгудской и Летнеконецкой волостях Кемского уезда. По современному административно-территориальному делению эти местности относятся к Муезерскому, Медвежьегорскому, Сегежскому и Беломорскому районам.
В настоящей статье названия населенных пунктов даны в соответствии со Списком населенных мест Карельской АССР, составленным по итогам переписи 1926 года6. Написание названий в полевых дневниках и статьях А. М. Ли-невского может незначительно отличаться от современных, к примеру: Нотта-варака (А. М. Линевский) – Ноттаварака (Список населенных мест Карельской АССР 1926 года), однако это не создает трудностей для идентификации населенных пунктов.
Полевые дневники исследователя в настоящее время хранятся в Научном архиве КарНЦ7. По итогам экспедиции он сделал ряд публи-каций8, а десять лет спустя обобщил данные в обширной статье «Материалы по этнографии и обычному праву карел Сегозерского района» в Археолого-этнографическом сборнике Карельского научно-исследовательского института9. Сборник не был опубликован и хранится в Научном архиве КарНЦ в единственном экземпляре.
Во время экспедиции А. М. Линевский собрал ценные сведения об обычаях, обрядах и верованиях, бытовавших среди карелов в 20-х годах XX века. В частности, ему удалось получить весьма обстоятельный материал по пастушеским обрядам в поселениях Шуезеро, Тороварака, Нот-таварака и Зимняя-варака Летнеконецкой волости (в настоящее время эта территория входит в состав Беломорского района). Местность была выбрана не случайно: исследователь отмечал, что Летнеконецкая волость прежде славилась пастухами-колдунами, которые зарабатывали деньги обходом многих селений (в частности, русского Беломорья) для совершения обряда отпуска. Он собрал информацию о сакральных предметах для пастуха – батоге, рожке и топоре, поведенческих запретах пастухов; составил описание обряда пастушьего отпуска; записал четыре заклинания отпуска. Как отмечал автор,
«мне посчастливилось… собрать в достаточной степени полный материал о пастушестве. То, что 50 лет назад скрывалось как тайна от православного попа, теперь удалось получить без особо больших затруднений. Причина успеха очень проста – в 1926 году последние пастухи были еще живы, но очень дряхлы. Институт колдовского пастушества доживал свои последние дни и старикам не было надобности скрывать то, что сделалось для них бесполезным»10.
В Тунгудском (Голодная варака, Шуезеро), Сегозерском (Юккогуба, Тухка-ваара, Лазарево) и Ругозерском (Ондозеро) районах была получена информация о поведенческих запретах охотников, обрядах договора с лешим. Вместе с этим
-
А. М. Линевский с сожалением писал, что весьма сложно реконструировать формы организации и нормы охотничьего промысла:
«Многое, что можно было бы собрать, за последние 10 лет навсегда и бесследно исчезло только потому, что этнография вычеркивается из тематики работ карельских научных организаций. Вот почему мы не имеем никаких представлений о структуре охотничьих артелей, соотношении между собой членов, о формах их охотничьего кодекса»11.
Сведения о разнообразных аспектах духовной культуры карелов были собраны А. М. Линев-ским преимущественно в Сегозерском (поселения Гонги-наволок, Лютта, Лазарево, Пелкулы, Чия-салма, Кузнаволок, Юккогуба, Паданы, Сон-далы, Тухка-ваара, Сельги) и Ругозерском (Ондо-зеро, Ругозеро, Большая Тикша) районах. Исследователь записал некоторые обычаи, связанные с земледельческими работами, посевом ржи и жатвой; пространством и границами жилых и хозяйственных помещений; нормами поведения в хозяйственных постройках (хлев, баня, рига). Были получены сведения о взаимодействии с миром животных, представлениях о диких и домашних животных, свидетельства особого отношения к медведю, щуке, лебедю. Записаны представления о человеческой душе и духах, населяющих окружающий мир (леших, водяных, различных представителях низшей мифологии), рассказы о колдунах, примеры колдовских заговоров, описания способов предохранения от порчи и нежелательных событий. Собраны интересные сведения о гаданиях в зимний и летний периоды, любовной магии и свадебной обрядности; материал о способах родовспоможения и лечения детских болезней, некоторых магических способах избавления от болезней животных. А. М. Линевский обращал внимание, что у карелов бытовало отношение к болезни как к порче, «пришедшей извне», вследствие чего особое развитие получила лечебная магия.
Ученый собрал также сведения об отношении карелов к умершим предкам. В дер. Большая Тикша (Ругозерский район) сохранились свидетельства о культе легендарного предка Ивана Рокаччу, полумифического героя шведских войн [2: 154]. В конце XVI – начале XVII века многие северокарельские деревни подвергались разорению со стороны шведов. По преданию, Иван Рокаччу был предводителем отряда карельских крестьян, прославился среди односельчан силой и храбростью. А. М. Линев-ский приводит описание локальных обычаев, связанных с культом Рокаччу и сохранившихся до 1926 года: местные жители обращались с просьбами о помощи, оставляя взамен деньги, куски ткани, пищу; при отъезде из родной деревни брали с собой могильную землю; приходили решать споры на могильный холм. Он отмечал сохранение элементов культа предков у карелов, что выражалось одновременно в боязни и почитании умерших родственников.
Исследователю удалось собрать обширный материал по обычному праву и взаимоотношениям между членами большой семьи. Он описал особенности статуса хозяина и хозяйки, их права и обязанности; положение в семье представителей старшего поколения, молодежи, женщин, вдов; права наследования имущества в большой семье, особенности наследования имущества незаконнорожденными, усыновленными и принятыми в семью (приемными детьми, сиротами, зятьями); выделение имущества солдату после возвращения со службы. Эти сведения были собраны в Сегозерском и Ругозер-ском районах, однако А. М. Линевский сообщал, что они бытуют также в Сорокском и Тунгуд-ском районах.
Во время пребывания в окрестностях Сороки произошло событие, которое во многом определило дальнейшее направление исследовательской работы ученого и его неугасающий интерес к истории Карельского Поморья, – открытие им для науки скопления петроглифов на о. Шой-рукшин реки Выг [16: 60–61]. Как позднее писал А. М. Линевский,
«эта находка навсегда прикрепила меня к Карельскому Поморью. Она определила и необходимые для расшифровки дисциплины: археологию, историю, этнографию, а также фольклор северных племен»12.
Однако, изучая его полевые дневники и написанные на их основе статьи, нельзя не отметить значительный объем материала по различным сюжетам материальной, духовной и социо-нормативной культуры карелов 20-х годов XX века, который ему удалось собрать за неполные шесть месяцев работы в поле. Весьма успешными были итоги экспедиции и для С. А. Макарьева, который собирал материал среди прионежских вепсов и впоследствии опубликовал несколько статей13. О работе остальных двух участников экспедиции, И. Любимова и В. С. Дубова, информации обнаружить не удалось. Известно, что впоследствии В. С. Дубов стал научным сотрудником Института языка и мышления имени Н. Я. Марра, руководил Ижорской лингвистической экспедицией 1931 года, принимал участие в подготовке первого букваря для ижорских школ [14: 637].
После защиты дипломной работы по петроглифам Карелии А. М. Линевский принял пред- ложение своего друга и коллеги по экспедиции С. А. Макарьева о работе в Карельском государственном краеведческом музее. К тому времени С. А. Макарьев занял должность заведующего музеем по приглашению руководства республики. Таким образом, итогом студенческой экспедиции 1926 года стало в том числе и появление в Карелии первых профессиональных этнографов.
В Карельском государственном музее А. М. Линевский работал с 1929 по 1930 год, затем устроился на работу в Центральное архивное управление АКССР. В должности инспектора архивного управления он много раз выезжал в районы с целью пополнения архивных фондов. Позже исследователь писал:
«Нарочно поступив в Госархив инспектором по районам, удалось объехать Беломорье от Нюхчи до Кандалакши, все Заонежье и западную часть Олонецкого района. Это позволило сделать немалые этнографические записи, в основном об уходящей в небытие Старой Оло-нии. Этнографические материалы, собираемые мною с 1926 г., приобретают большое значение по той причине, что кроме двух по месяцу экспедиций Академии наук, за истекшее 20-летие никто, кроме меня, не занимался этим делом»14.
ЭКСПЕДИЦИЯ 1944 ГОДА В ГРИДИНО И КАЛГАЛАКШУ
С 1933 года А. М. Линевский работал в КНИИ15, где получил возможность продолжить работу по изучению петроглифов. Фокус исследований сместился в сторону изучения древней истории Карелии16. Однако обстоятельства заставили ученого вновь обратиться к этнографическому полю. С началом войны сотрудники КНИИК были эвакуированы в Сыктывкар (Коми АССР), в 1943 году работа института возобновилась в Беломорске [11: 16], где в период оккупации Петрозаводска находился штаб Карельского фронта и правительство республики [3: 42]. Сотрудники КНИИК в основном занимались записью рассказов участников партизанского движения. Помимо этой работы А. М. Линевский получил задание собрать материалы по исследовательской теме «Тыл – фронту» для изучения условий труда и жизни населения прифронтовой полосы. С этой целью в 1944 году с 16 февраля по 26 марта была организована экспедиция в поморские села Гридино и Калгалакша.
Изначально планировалось провести два месяца в Гридино и Нюхче. Уже в начале экспедиции А. М. Линевский скорректировал маршрут, решив, что необходимо
«кроме села Гридино, изучить село Калгалакшу, как весьма существенное дополнение. Сопоставляя эти соседние колхозы между собой, мы получаем более точные и более обширные выводы»17.
Экспедиционные материалы исследователя хранятся в научном архиве Карельского научного центра РАН и составляют 8 дел18, отчет об экспедиции выявлен в Национальном архиве Республики Карелия19.
Гридино и Калгалакша расположены на западном побережье Белого моря на расстоянии примерно 20 км друг от друга, довольно изолированно от других поморских сел. Первое упоминание о Гридино относится к 1635 году [6: 169], Калга-лакша также известна с XVII века. Основными занятиями местного населения, влияющими на все остальные отрасли комплексного крестьянского хозяйства, были рыболовство и промысел морского зверя. Традиционным для данной местности было оленеводство. А. М. Линевский упоминал в отчете, что от железнодорожной станции до Калгалакши добирался на оленьей упряжке, присланной с почтой. Из-за сложных материальных условий жизни в прифронтовой полосе, как отметил исследователь, участились случаи краж и убоя оленей, который за время войны
«сделался своего рода промыслом. Приказчик М. Р. С. по с. Калгалакше уверял, что… оленье стадо (колхозное и индивидуальное) сократилось на 2/3 из-за хищнического убоя»20.
-
А. М. Линевский весьма живописно описал местный ландшафт:
«Постройки Гридино лепятся по скалам и потому в некоторых местах улица представляет деревянный мост между двумя каменными выступами. Усадебные участки небольшие… покатой площади, на которые из года в год заботливые хозяева натаскивают свежую землю. Гридяне живут в районе, где нет рек, пресную воду добывают только из двух источников. В ином положении население Калгалакши. Огородные участки находятся… на ровной площади и не требуют такой обработки. Селение расположено в устье речки, отсюда возможность зимой промышлять навагу, в залив заходит сельдь, камбала и прочая рыба. …Они могут круглый год заниматься рыбной ловлей. Гридино лишь в одном имеет преимущество перед Калгалакшей: зимою его район более удобен для промысла на морского зверя – тюленя, нерпы и гренландского зайца. Но зато острова в районе Калгалакши удобнее летом, когда зверь выходит на места, покрытые каменьями»21.
В годы войны в прежде относительно однородной среде колхозного крестьянства появились новые социальные группы: эвакуированные из соседних регионов и оккупированных районов Карелии; семьи солдат, призванных на фронт; семьи демобилизованных по причине увечья фронтовиков. Исследователь стремился включить их в круг информантов наряду с представителями профессий в сфере морских промыслов, местной власти и сельской интеллигенции. Всего по двум селам были записаны 34 беседы. Помимо этого А. М. Линевский организовал создание «рукописей» жителями сел, считая, что такие записи сами по себе представляют ценный источник. Для этого он обращался к местной интеллигенции и тем, кто был достаточно грамотным, чтобы самостоятельно записать свою автобиографию. Так как авторы рукописей в основном прежде не имели подобного опыта, то ученый предварительно встречался с каждым, беседовал, задавал вопросы и стремился пробудить интерес своих собеседников к написанию рассказов. Эта работа отнимала много времени –
«обычно они оттягивали до самого последнего, иной раз начатая работа не удовлетворяла самого автора, и он уничтожал написанное, начинались длительные уговоры»22.
В итоге по завершении экспедиции было получено 15 рукописей. Кроме того, А. М. Линев-ский собирал копии и оригиналы документов о деятельности рыбацких колхозов.
Материалы о хозяйстве поселений в годы войны сгруппированы в три дела. В деле № 785 собраны копии и оригиналы документов о деятельности рыбацких колхозов: протоколы собраний, постановления, доклады о результатах работы, данные по объемам улова, письма фронтовиков с просьбами о помощи своим семьям. Дело № 786 содержит коллекцию записей бесед с представителями местной власти и сельской интеллигенции, «знаменитыми рыбаками» колхозов «Победа» (Гридино) и «12-я годовщина Октября» (Калгалакша). В них содержатся сведения об организации коллективного труда в годы войны, увеличении роли женщин в выполнении всех видов хозяйственных работ, инициативах по оказанию помощи фронту. Здесь же представлены заметки о повседневной жизни поморских сел, полученные от представителей местной сельской интеллигенции. Избач В. А. Князева, направленная на работу в Гридино, в своей рукописи под названием «Впечатления приезжего» обращает внимание на расположение домов, обстановку, одежду, традиционную кухню, занятия, говор и черты характера. В записи фельдшера из Калгалакши М. П. Капецкой представлены местные методы самоврачевания и описание похоронного обряда. В деле № 787 собраны записи рассказов рыбаков и зверобоев – 18 мужчин и 3 женщин. Обширные записи получены от Р. Н. Бутакова (1906 г. р.)23 и А. Д. Мехнина (1889 г. р.). В них, помимо описаний трудовой деятельности колхозов, содержатся сведения этнографического характера – промысловые на- блюдения, приметы, сведения о промысловом календаре, повадках морских зверей (гренландского тюленя, нерпы, морского зайца, белухи). Информация о работе женского звена в рыбацком колхозе наиболее полно представлена в беседе с Р. В. Ефремовой (1928 г. р.).
В отчете А. М. Линевский описал изменения в организации трудовой деятельности в военные годы, вызванные необходимостью увеличения объемов добычи морских ресурсов: новые способы ловли, изменение сроков выезда в Баренцево море. Обычно рыбаки из Гридино отправлялись на промысел в Баренцево море к тоням у Восточной Лицы с середины – конца мая, после «егорьевского» лова сельди в Кандалакшской губе, который начинался с 6 мая, дня почитания Святого Георгия (Егория Вешнего), и продолжался 2–3 недели [6: 175]. В 1944 году рыбаки отправились на промысел в конце марта. Исследователь отмечает участие женщин в выполнении всех видов хозяйственных работ. По данным за 1943 год, в гридинском колхозе «Победа» в рыбном промысле было задействовано 37 человек, из них 16 женщин. Женщины становились звеньевыми в колхозных работах и на рыбном промысле, весьма успешно руководя работой своих трудовых коллективов.
Вместе с тем в отчете, не предназначенном для публикации, А. М. Линевский писал, что многие женщины, оставшиеся без мужей, находились в подавленном состоянии, ожидая помощи от государства и односельчан. В ряде семейств дети были на грани крайнего истощения. Исследователь упоминал инициативы жителей сел по оказанию помощи семьям солдат24, но вместе с тем признавал их недостаточными из-за отсутствия постоянной поддержки «домохозяек, которые проявляют явную беспомощность в самостоятельном хозяйствовании». В бедственном положении в Гридино и Калгалакше также находились и эвакуированные, которые не были устроены на работу и перебивались случайными заработками на вязании шапок и платков из гагачьего пуха. Трудности повседневной жизни людей в военные годы отражены в рассказах женщин, чьи мужья ушли на фронт; солдат, вернувшихся домой после ранений; письмах эвакуированных из северо-западных районов Карело-Финской ССР. Эти материалы составили два дела (№ 788 и 789).
Попутно со сбором сведений по изучению условий труда и жизни местного населения А. М. Линевский записал более 300 частушек, две песни и два причитания. Анализ данной коллекции поморских частушек военного времени представлен в статье Е. В. Марковской [7].
Материалы экспедиции А. М. Линевского 1944 года не были в полной мере использованы им в исследовательской работе, остались неопубликованными и недоступными широкому читателю. Вместе с тем они представляют собой редкие этнографические сведения о повседневной жизни поморских поселений в 1940-е годы, свидетельства об изменениях в структуре организации труда и быта в отдаленных селах прифронтовой территории в годы Великой Отечественной войны. Собранные в экспедиции автобиографические рассказы эвакуированных, членов семей солдат, сельской интеллигенции являются значимыми источниками для изучения восприятия человеком военных и политических событий, личных переживаний, связанных с тяготами войны и потерей близких.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ материалов экспедиционных поездок А. М. Линевского 1926 и 1944 годов в Карельское Поморье показывает, что они могут служить ис- точниками как для этнографических исследований разных этнических групп Карелии, так и для характеристики повседневной жизни населения республики в сложные военные годы. В силу политических обстоятельств того времени А. М. Линевский не мог полностью отразить их в своих научных и художественных произведениях. Только незначительная часть данных материалов была использована в работах других исследователей. Высказанное в статье Ю. А. Савватеева предложение о подготовке к изданию сборника материалов и документов о А. М. Линевском приобретает особую актуальность в преддверии 100-летнего юбилея со дня рождения ученого, который будет отмечаться в 2022 году. Публикация наиболее интересных материалов полевых исследований А. М. Линевского значительно пополнит базу источников для изучения истории и традиционной культуры поморов и карелов, а также истории Карелии в 20–40-е годы ХХ века.
Список литературы Этнографические экспедиции А. М. Линевского в Карельское Поморье
- Вахтин Н. Б. «Проект Богораза»: борьба за огонь // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 125-141.
- Конкка А. Карсикко: деревья-знаки в обрядах и верованиях прибалтийско-финских народов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. 286 с.
- Копанев В. Н. Эвакуация органов власти Карелии в 1941 году // Карельский фронт и Советская Карелия в годы Великой Отечественной войны: Сб. статей междунар. научно-практ. конф. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. C. 37-45.
- Левитина А. М. А. М. Линевский: Критико-биографический очерк / Ред. В. М. Иванов. Петрозаводск: Карелия, 1973. 144 с.
- Линник Ю. В. Время (к 75-летию А. М. Линевского) // Север. 1977. № 4. С. 113-117.
- Логинов К. К. Историко-этнографические особенности поморского села Гридино: прошлое и современность // Скальные ландшафты Карельского побережья Белого моря: природные особенности, хозяйственное освоение, меры по сохранению. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. С. 168-190.
- Марковская Е. В. Поморские частушки военного времени в записях А. М. Линевского // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 7 (184). С. 62-69. DOI: 10.15393/uchz. art.2019.387
- Михайлов Е. П. Забытый исследователь чувашей // Чувашский национальный музей. Люди. События. Факты (2001): Альманах. Чебоксары: Чувашский национальный музей, 2001. С. 81-84.
- Савватеев Ю. А. В поисках достоверности: о жизни и деятельности А. М. Линевского // Север. 2010. № 7-8. С. 94-107.
- Столяр А. Д. Перечитывая «Петроглифы Карелии» Александра Михайловича Линевского // Вестник краеведческого музея: Сб. науч. трудов. Вып. 2. Петрозаводск, 1994. С. 3-10.
- Титов А. Ф., Савватеев Ю. А. Карельский научный центр Российской академии наук: история и современность (краткий очерк). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. 158 с.
- Филимончик С. Н. Изучение вепсов в Карелии в 1920-1930 годы // Вепсы и их этнокультурное наследие: связь времен (памяти Р. П. Лонина): Материалы первой межрегиональной краеведческой конференции «Лонинские чтения», с. Шелтозеро, 22 сентября 2010 года. Петрозаводск, 2011. С. 15-26.
- Филимончик С. Н. Музейное строительство в Карелии в конце 1920-х-1930-е годы // Румянцевские чтения 2018. Библиотеки и музеи как культурные и научные центры: Историческая ретроспектива и взгляд в будущее / Сост. Е. А. Иванова. М.: Пашков дом, 2018. С. 197-202.
- Чумакова Т. В. Исследователи народной религиозности: Я. Я. Ленсу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. Вып. 4. С. 636-650. DOI: 10.21638/spbu17.2018.415
- Шафранская К. В. Литературный кружок А. М. Линевского (1929-1930 гг.) // Краеведческие чтения: Материалы II науч. конф. Петрозаводск: Научная библиотека Республики Карелия, 2009. С. 7-9.
- Шахнович М. М. Александр Линевский и петроглифы Карелии: хроника 1926-1929 годов // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2020. № 5 (45). С. 58-68.