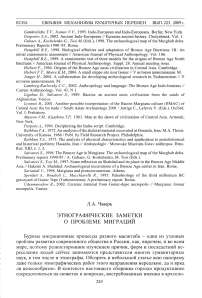Этнографические заметки о проблеме миграций
Автор: Чвырь Л.A.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 223, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328017
IDR: 14328017
Текст статьи Этнографические заметки о проблеме миграций
JI.А. Чвырь
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИЙ
Бурные миграционные процессы разного масштаба - одна из узловых проблем развития современного общества в России, как, впрочем, и во всем мире, поэтому разносторонним изучением причин, форм и последствий переселения людей сейчас занимаются представители многих гуманитарных наук, в том числе и этнографы. Обозреть в небольшой статье всю панораму даже только этнографических работ этого направления нереально, да и вряд ли целесообразно. В контексте настоящего сборника гораздо продуктивнее сосредоточиться на сюжетах и вопросах, востребованных именно в архсоло-
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. го-этнографических исследованиях и тем самым определить наиболее актуальные, важные для обеих наук направления анализа.
Круг дискуссионных вопросов в “миграционных” штудиях археологов хотя и широк, но в конечном счете сводим к нескольким типичным ситуациям, вызывающим наибольшие споры. К примеру, два автора, опираясь на материал определенной археологической культуры, убедительно выстраивают две разные реконструкции одного исторического эпизода (в частности, предлагая прямо противоположные направления изучаемой ими миграции). Получается, что каждая из противоречащих друг другу концепций по-своему логична (в части собственно археологических данных), а уязвимое звено подобных построений, как кажется, - в недостатке внеархеологических обоснований и аргументов, т.е. в недостаточном учете социокультурных факторов и мотивировок, нередко содержащихся именно в этнографо-аналитических описаниях.
К этой коллизии примыкает и до сих пор остающийся проблематичным принцип - возможности формального (т.е. исключительно по “материальным следам”) различения двух типов изменений в культуре - вследствие свершившейся миграции или в результате влияния определенных культурных центров, т.е. в виде заимствований отдельных или серийных, массовых “чужих” предметов, навыков, действий и идей. Общепризнанного ответа на этот вопрос пока нет.
Насколько можно судить, археологов также волнует уже не только фиксация проникновения вещей в чужеродную культуру и даже не просто формы восприятия инноваций (в одной, нескольких или во всех сферах общественной жизни), но и последствия самого факта заимствования (тоже отраженные материально). Иными словами, механизмы и интенсивность реакции изучаемой культуры на определенный “вызов” извне внятно, и тем более однозначно, еще не описаны.
Другой аспект той же проблемы содержит вопрос - можно ли ставить знак равенства между происхождением (и “передвижением”) материального предмета или культурного явления, с одной стороны, и генезисом одного “соответствующего” ему этнокультурного образования? Пытаясь прояснить ситуацию, археологи уже стараются отходить от излишней прямолинейности: при реконструкции крупных миграций, например, можно встретить разные варианты - и совпадения маршрута переселенцев с “передвижением” соответствующих им предметов материальной культуры, и случаи, когда «генеральные векторы движения групп древнего населения были прямо противоположными... направлениям движения “вещей” (импортов, заимствований идей, технологических приемов и пр., отслеживаемых археологически)» (см. статью А.Н.Гея, с. 13-19).
Никак, естественно, не оценивая конкретных археологических гипотез, отмечу в этой связи два момента. Первый - в археологической литературе разнообразные варианты межкультурных контактов описаны многократно, но они преимущественно выявляют и ставят подобные сложные вопросы, не всегда отвечая на них; в таких случаях обращение к “посторонним” - этнографическим - данным может оказаться небесполезным. Второй: системный подход (выгоды и необходимость которого, как будто, общепризнаны), как известно, требует выработки общих постулатов - фундамента междисциплинарных исследований. И, возможно, сейчас, на фоне нового накопленного материала и внедрения качественно новых (компьютерных) методов его обработки в археологии, этнографии и других гуманитарных областях, целесообразно почаще сравнивать, дополнять и даже пересматривать эти постулаты, в частности связанные с изучением миграций.
Археологи, по моим наблюдениям, часто по инерции, бессознательно исходят из постулата о моноэтничности и, следовательно, монокультурности либо мигрантов, либо местного населения - т.е. обеих сторон культурного взаимодействия. А между тем подобная ситуация (в принципе иногда возможная) уже требует специального доказательства (о чем свидетельствуют эмпирические этнографические данные). То есть этническая группа совсем не обязательно является носителем специфической (этнической) культуры, им может быть (и чаще всего именно бывает) и полиэтническое сообщество.
Незыблемым пока остается и постулат о том, что на характер взаимодействия мигрантов с местным населением влияет несколько факторов -численный состав пришельцев и их соотношение с местным населением, их этнокультурная и языковая принадлежность, одинаковый или не совпадающий уровень социального развития, а также разновидности, характер и условия самих миграций - долговременных или кратких, “постоянных” (маятниковых, волнообразных и др.) или “одноразовых”, массовых или в виде инфильтрации небольших групп и т.п. Считается, что все перечисленные факторы предопределяют предпочтения тех или иных форм заимствований в определенных сферах обеих контактирующих культур, и - соответственно -итоги взаимодействия в материальном виде могут оказаться разными. Спору нет, названные утверждения очевидны до банальности, но их общепризнанность заслоняет другую их характеристику - исследовательски они “разработаны” все еще недостаточно, до сих пор остаются открытыми множество вопросов: чем отличается (и отличается ли вообще) обмен элементами культуры (или их одностороннее заимствование) между близкородственными этносами или между совсем чужеродными этническими группами? влияют ли на этот обмен и как именно конкретные разновидности численного баланса мигрантов и местных? и т.д.
Еще один давно установленный постулат: процесс заимствования чужеродных элементов культуры (предметов, форм деятельности, идей и пр.) очевидно зависит и от иных, более масштабных обстоятельств. Во-первых, считается, что объем, интенсивность и качество культурных заимствований зависит прежде всего от окружения - этнокультурного, социально-экономического, этнополитического (например, от характера связей мигрантов со “своим” и соседними государствами, от степени воздействия макрокультур-ного фона - как постоянного, надэтнического или цивилизационного, так и от временного источника мощной культурной иррадиации из какого-то центра). Во-вторых, на характер культурных заимствований влияют условия самого взаимодействия, включая и его длительность, поскольку отдельные
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. поначалу факты заимствований постепенно могут превратиться в массовые, а с какого-то момента (перехода количества в качество) даже порой неузнаваемо измениться, переродившись в синтез двух сблизившихся культур. Последняя возможность вообще крайне редко возникает в сознании исследователей и поэтому отсутствует в публикациях (если только синтезом не называют обычное сосуществование разнокультурных элементов).
Примеры обращения этнографов к “миграционной” тематике, представленные ниже, никак не претендуют на исчерпывающую полноту и систематичность, они всего лишь отражают мое субъективное вйдение ситуации в отечественной этнографии, и к тому же опираются главным образом на центральноазиатские этнографические исследования (хотя учтены и наиболее методологически важные достижения коллег, изучающих другие регионы). Цель этих наблюдений и заметок - проследить, как в связи с новейшими веяниями в развитии самой этнографии изменились аспекты ее традиционной миграционной проблематики.
Фрагменты современной этнографической реальности кому-то могут показаться чересчур далекими от археологических потребностей. На этот счет следует сразу оговориться: наличие прямой, конкретной, “очевидно доказательной” этнографической аналогии, якобы способной разрешить все археологические неясности, сейчас уже вызывает сомнения и все чаще оспаривается из-за многочисленных натяжек, так что более необходим поиск новых форм контактов с родственными науками.
Чем конкретно могут оказаться полезны этнографические сведения для археологических изысканий? Их ценность могла бы состоять, например, в демонстрации целого спектра механизмов культурного взаимодействия двух групп, в выявлении возможных моделей культурных контактов, или - в акцентировании, выделении особой роли некоторых факторов этого взаимодействия и т.д. Но, к сожалению, подобные данные в этнографии еще столь малочисленны, что высказанные на их основе гипотезы пока никак нельзя отнести к общепринятым. И все же в последние десятилетия уже все чаще появляются публикации, свободные от наиболее очевидных профессиональных штампов и стереотипов, в которых описаны и проанализированы конкретные случаи, объясняющие мотивы и механизмы взаимодействия и их последствия для материального и духовного состояния этнокультурных групп-партнеров.
* * *
На протяжении почти всего прошлого столетия отечественная этнография была буквально поглощена идеей изучения этногенеза народов мира, так что диахронный аспект исследований процветал, и любое этнографическое явление, материал или тему, как правило, рассматривали прежде всего и по преимуществу в ключе этнической истории. Это относится и к изучению миграций: увлечение происхождением и историей этносов в древности и средневековье нередко шло в ущерб “синхронному” анализу - не- посредственно протекавших (и наблюдаемых) миграций конца XIX-XX в., их причин, условий и механизмов взаимодействия пришельцев с местным населением.
Реконструируя более ранние перемещения различных групп в гео- и этнокультурных пространствах, этнографы, естественно, вынуждены были опираться главным образом на археологические и письменные данные, а не на собственно этнографические источники, и вследствие этого очень скоро утратили привилегию (данную себе и другим еще С.П. Толстовым) на обобщение “комплексных сведений по этногенезу и этнической истории”. Эти функции мягко и логично перешли к археологам (и физическим антропологам), которые в рамках сложившейся к середине XX в. концепции этноса и этногенеза широко использовали помимо своих еще и данные письменных источников.
В этой ситуации этнографам оставалось лишь “подтверждать” выявленные уже без них “основные тенденции этнического развития” каждого изучаемого народа, т.е. интерпретировать свои полевые материалы преимущественно в этом же аспекте. Например, даже изучая с этнографической точки зрения жизнь и быт населения Средней Азии в советское время в так называемых “колхозных монографиях” 1950-1960-х годов (см., например: Ершов и др., 1954; Бикжанова, Сухарева, 1955; Быт колхозников..., 1958; Жданко, 1958 и др.), большинство авторов мысленно по-прежнему оставалось “в пространстве этногенеза”: в современности они обращали внимание главным образом на архаику и реликты досоветского периода, которые опять-таки связывали со спецификой местной этнической истории. Неслучайно поэтому в тематике отечественных этнографических работ преобладали “домусульманские обряды и обычаи”, “Социальная структура и институты традиционного общества”, “Пережитки в семейной сфере”, “Традиционное хозяйство и связанные с ним верования и представления” и т.п., а многие иные аспекты (в том числе и недавние перемещения различных групп по х территории Средней Азии и Казахстана) упоминали лишь при описании этнического состава населения страны или региона.
Со временем, особенно с 1960-1970-х годов, этнографы постепенно начали отходить от “диахронии” в сторону “синхронии”, и в фокус их внимания наконец-то стали попадать конкретные процессы и изменения в традиционной культуре и быту разного рода переселенцев (например, приток славянского и кавказского населения в Среднюю Азию из России в конце XIX-XX в. или локальные перемещения коренного населения в советское время). Однако собранные и уже отчасти описанные материалы о миграциях, как крупных, так и небольших, все еще не выкристаллизовались в самостоятельную, осознанную, многослойную проблему. Возможно, отчасти это объясняется тем, что на протяжении 1920-1970-х годов основное внимание исследователей было направлено на фиксацию влияния мощных социально-экономических и идеологических трансформаций “советского строя” на традиционный быт коренного населения. Упомянутые переселения сами были лишь частью этих кардинальных изменений в жизни среднеазиатско-казахстанского общества, но в итоге в этнографической литературе оказались описанными лишь некоторые из интересующих нас вопросов - торговые связи, новое этническое окружение переселенцев, одно- и двухсторонние культурные заимствования между ними и местным населением.
Подробное освещение причин и последствий миграций в конце XIX в. или даже на протяжении всего XX в., в том числе происходивших буквально “на глазах” или в самом недавнем прошлом и еще хорошо сохранившихся в памяти людей, - все это отнюдь не входило в этнографический мейнстрим. Даже такой кардинальный для Средней Азии процесс, как оседание кочевников, был описан достаточно схематично, прежде всего, как правило, восстанавливали родоплеменной состав и расселение осевших кочевников, что само по себе было колоссальным и чрезвычайно кропотливым трудом (Быт колхозников..., 1958; Культура и быт..., 1967; Винников, 1956; Абрамзон, 1960; Андрианов, 1961; Жданко, 1961 и др.). Следовавшие далее описания их культуры включали, с одной стороны, сохранившиеся “пережитки кочевого образа жизни”, а с другой - констатацию быстрой трансформации главных материальных форм быта (жилища, поселений, одежды, утвари), которые приближались к местным оседлым образцам. Все прочие изменения в социальной и культурной жизни тюркоязычных кочевников тоже привычно по сложившимся стереотипам объясняли прежде всего радикальной сменой их социально-экономического состояния после Октябрьской революции, а затем уже - заимствованиями у оседлых соседей, а также упоминали воздействие русской, “европейской” культуры. На этой констатации, без особых доказательств, анализ обычно и заканчивался.
А между тем особый интерес для всех, кто обращается к этнографическим аналогиям, представляют прежде всего последствия миграции, представленные в виде встречи двух культур (местной и пришлой). Ясно, что исторические реалии Средней Азии должны давать примеры разных типов “встреч” (например, кочевников и оседлых, переселенцев и местных, завоевателей и завоеванных, тюрков и иранцев и т. п.), но дальше фиксации этих примеров дело пока не пошло. Это упущение, несомненно, объяснимо.
Со второй половины XIX в. все небольшие силы отечественных гуманитариев были брошены на изучение колоссального культурного наследия народов Туркестана, присоединенных тогда к Российской империи, и поначалу вопрос о взаимной адаптации российской и среднеазиатской культур просто не возникал. Позднее, в XX в., этот сюжет из “этнографической” жизни в Туркестане, к сожалению, тоже почти не затрагивали. Счастливым исключением до сих пор остаются лишь отдельные публикации, среди них - обстоятельная и яркая статья Б.Х. Кармышевой (1979), в которой впервые была представлена сложнейшая и многовековая, целостная хозяйственно-культурная система традиционного и разноэтничного общества на юго-востоке Средней Азии. Там, как известно, рядом с оседлым (ирано- и тюркоязычным) населением в оазисах и вокруг них на протяжении столетий постепенно оседали тюркоязычные кочевники разного происхождения. Анализ этой сложной (но отнюдь не уникальной) системы позволил автору наглядно продемонстрировать, как она функционировала и в каких культурных отношениях оказались эти разные группы уже в постмиграционный пе- риод. Эту линию исследования отчасти продолжают этноэкологи (Тезисы..., 2005. С. 335 и др.; 2009. С. 435-469).
Другой возможный вариант изучения “этнографических” миграций был связан с описанием целенаправленного (осознанного) культурного сближения пришлой и местной культур в советское время. Тогда происходило множество микромиграций (например, переселение горцев на равнины, в хлопкосеющие районы) или вторжение и установление культурных взаимодействий туркестанцев и пришлых групп из России (русских, восточноевропейских народов, немцев, поляков, депортированных северных кавказцев и др.). Но все происходившие при этом культурные контакты и трансформации фактически так и не были системно обследованы и осмыслены вплоть до конца 1980-х годов.
Этнографы, по моим наблюдениям, всегда старались избегать сложившихся околонаучных идеологизированных канонов. Например, согласно одним из них следовало подчеркивать положительные последствия русских завоеваний в Туркестане, а прочие, негативные стороны жизни коренных народов объяснять “отдельными пережитками феодально-байского прошлого”; позднее маятник оценки качнулся в противоположную сторону - и “ужасы колониализма” совсем заслонили значимый вклад русской интеллигенции в дело сохранения и изучения культурного наследия туркестанцев. Поэтому самым естественным образом полевые исследователи основное свое внимание направляли обычно на фиксацию и развитие этнической карты региона и изучение местной традиционной культуры, особенно увлекаясь поиском, сбором и анализом местной архаики, домусульманских еще пережитков, а более позднюю этнографическую реальность освещая скупо и крайне схематично. Сейчас все это позади, маятник опять качнулся в противоположную сторону.
В итоге можно констатировать, что в этнографической литературе вплоть до 1990-х годов, несмотря на частые упоминания конкретных переселений или кочеваний среди среднеазиатского населения, проблематика миграций в туркестанском обществе относилась к разряду маргинальных. В многочисленных описаниях “основных этапов этнического развития” среднеазиатских народов, естественно, упоминались контакты разных народов и групп населения (чаще всего - характерные для региона оседло-кочевые взаимодействия, некоторые внутренние миграции, о которых, впрочем, и до сего дня известно очень мало), но при этом механизмы и результаты взаимодействия народов и культур на позднем этапе истории (в XIX-XX вв.) оставались туманными. Единственным, пожалуй, исключением является книга С.А. Арутюнова (1989), касающаяся и интересующих нас проблем, но на общетеоретическом уровне.
Такое положение дел не было специфически среднеазиатским, в других регионах страны этнографы тоже не уделяли этой стороне проблемы должного внимания, хотя темы переселений касались многие, и только в последние годы все разрозненные кусочки мозаики стали складываться в более или менее цельную картину.
♦ ♦ *
Что же произошло в последние десятилетия в отечественной этнографии, с чем связаны упомянутые изменения? Недавно были опубликованы ответы на анкету, собравшие мнения ученых о состоянии отечественной этнологии (Антропологический форум, 2005; ср.: Соколовский, 2001. С. 48 и др.). Большинство признало, что наша наука ныне находится в кризисном состоянии или, точнее, на стадии перелома, перестройки, поиска новых методологических ориентиров. Еще рельефнее - как “смена научной парадигмы” или “антропологический поворот” во всей гуманитарной сфере и т.п. - те же по существу тенденции прослеживаются и в мировой науке (Берк, 2005; АЬ Imperio, 2006).
В отечественной науке подобные процессы проявляются прежде всего в новой тематике исследований (особенно у молодых авторов), а также в общем смещении акцентов в этнографических работах: то, что раньше было главными объектами интереса, нередко уже отходит на второй план, а периферийные или вовсе ранее неизвестные сюжеты становятся ведущими.
Тенденции обновления среди прочего выражаются и в очевидном перемещении фокуса исследовательского внимания с архаики на изучение этнографическими методами недавнего прошлого и особенно современной текущей, быстро меняющейся жизни, ее форм, институтов и тенденций развития. Ведется огромная работа по фиксации и анализу конкретных явлений и ситуаций (например, трансформации идентичностей и адаптации мигрантов Евразии и Европы; гастарбайтерства в России; этнических моделей трансформации в постсоветском пространстве; межконфессиональных отношений беженцев с местным населением в регионах России и пр.; см. около двухсот выпусков серии “Прикладная и неотложная этнология” издания ИЭ РАН, а также: Тезисы, 2001. С. 247-255; Мартынова, 2004; Межэтнические отношения и конфликты..., 2004; Тишков, Степанов, 2004; Тезисы..., 2005, и др.; 2007. С. 475-483).
Больше внимания уделяется теперь изучению собственно человеческого общения (и личностному, и коллективному, в первую очередь, конечно, между этническими группами). Такой ракурс актуализирует возможности этнографии фиксировать конкретные “простонародные” объяснения, мотивировки, намерения, обоснования людьми своего поведения в ситуациях общения, и таким образом - обращаться к массовому, традиционалистскому сознанию. Попытки изучения его современных форм и трансформаций, и прежде всего двух основных и загадочных явлений - самосознания (группового и индивидуального) и исторически сложившихся стереотипов отношения к окружающим (разнообразным этническим, социальным, конфессиональным, хозяйственным группам) - все чаще становится предметом пристального анализа этнографов (см., например: Идентичность и конфликт..., 1997; Тезисы, 2001. С. 244-255; 2005. С. 57-66, 218, 221, 352-353 и др.).
Рассмотрение в таком ключе миграций (если под этим термином понимать процесс изменения системы внутреннего и внешнего общения переселившейся группы в результате смены не только географических и полити- ческих условий существования, но и этнокультурного окружения, и места в новой иерархии взаимодействий) показало, что установление причин, форм и условий того или иного переселения в конечном счете только помогает понять главное - его последствия (для обеих сторон).
Всеобщий интерес вызывает ситуация вынужденного, насильственного переселения народа по этническому признаку, но изучение этого явления этнографами еще только начинается (Тезисы..., 2001. С. 247-255; 2005. С. 53, 103, 354 и др.). Пока описан главным образом сам трагический процесс депортации людей, а способы адаптации и их долговременные последствия анализируют меньше, хотя они оказались довольно разнотипными. В одном случае - выселения хакасов в Джунгарию в XIX в. - констатируются резкое уменьшение численности народа, разрушение традиционной социальной структуры, изменение даже самоназвания (Бутанаев, 2001. С. 223).
Другой вариант - последствия депортации калмыков XX в. Первым естественным следствием этого жестокого государственного акта был стресс, травма коллективной памяти и тоже трансформация идентичности (после оценки в народном сознании депортации как трансцендентного Зла). Затем последовал период умолчания этого исторического эпизода, которое этнографы толкуют как типично буддийский прием-принцип дистанцирования от Зла. Однако со временем под влиянием СМИ и политиков, часто муссировавших эту тему, отношение народа к ней постепенно стало изменяться и приняло довольно неожиданную форму - ныне самооценка калмыков вновь резко повысилась, теперь они с гордостью вспоминают достойно перенесенные ими во время депортации страдания и утраты, оценивая свое поведение опять-таки на основании буддийских традиционных взглядов о ценностях жизни. Любопытно, что та же тенденция в народном сознании проявилась и в калмыцкой диаспоре зарубежья, хотя поводы там были совсем другие (не тяжелые лишения депортации, а лишь неудобства миграции в связи с ней). Во-первых, среди калмыков до сих пор действует традиционная (кочевническая?) установка, что всякое перемещение дает надежду на улучшение жизни, и, во-вторых, они не хотят “растворяться среди белых” (в США), что тоже указывает на их нынешнюю достаточно высокую самооценку и статус (Гучинова, 2004).
В Средней Азии и Казахстане социокультурные взаимоотношения, сложившиеся между коренными народами и местным русскоязычным населением (сформировавшимся из российских переселенцев конца XIX-XX в.), вплотную, наконец, заинтересовали исследователей лишь в 1990-х годах. Сложный этнический и социальный состав “русских” туркестанцев и их специфический культурный облик - лишь одна сторона вопроса, отчасти фиксировавшаяся и ранее, а вот другая сторона - описание их повседневного, бытового общения с коренным населением - стала объектом изучения совсем недавно. Теперь авторы не просто отмечают изменения в традиционном быту туркестанцев под влиянием русских (как обычно делали и раньше), но уже идут дальше, выявляя устоявшиеся формы и дистанции в культурно-бытовых контактах двух “встретившихся” сторон (Брусина, 2001). В поле зрения исследователей находятся теперь уже не только этностереотипы, бытующие в народной туркестанской среде, но и непосредственные, живые оценки и мнения таджиков, узбеков, казахов о содержании и характере их взаимоотношений с “русскими” соседями в быту, изучаются основные формы переселений (особенно так называемые трудовые миграции в Россию). На протяжении всего прошлого века, особенно в его конце, резко возросло этноконфессиональное сознание туркестанцев, которое также не было обойдено вниманием этнографов {Шоберлайн-Энгел, 1997; Чвырь, 1994; 2002; Тезисы..., 2001. С. 221, 224; 2009. С. 242-259; Археология..., 2005. С. 23-101).
Еще одна заметная современная тенденция - перемещение фокуса внимания этнографов с сельского населения на горожан, на структуру самих городских сообществ. Это урбанистическое направление и в мировой, и в отечественной антропологии прежде всего предполагает освещение культурного соотношения между этническими группами горожан в пределах территориальной единицы любого масштаба (будь то маленький городок или мегаполис), механизмы и векторы их взаимодействия, а затем выявление разных его моделей (см., например: Малькова, 2004). Изучение сотен этнических групп в мегаполисе уже довольно давно ведется по всему миру, и оно показало, что модели взаимодействия могут быть разными, но их анализ требует глубокого проникновения в систему общения людей. Так, в свое время в США, классической стране переселенцев, была сформулирована идея так называемого “плавильного котла”, в котором, якобы, культурно “растворяются” все традиционные и своеобразные группы переселенцев. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что скорее всего это была иллюзия, было обнаружено лишь разное соотношение двух основных тенденций развития - всеобщей унификации и, напротив, культурно-административного обособления даже небольших этнических групп. Впрочем, скоро стало ясно, что это отнюдь не американская специфика, а суть современной культурной ситуации во всем мире {Тондера, 2005).
Но как бы то ни было, урбанистическое многообразие, в свою очередь, нередко является частной формой полиэтнических культурных сообществ (Тезисы..., 2001. С. 217-235; 2005. С. 42, 55, 325-334, 349-366; 2007. С. 156-184; 2009. С. 212-269). Кстати, востоковеды установили, что они существовали издревле: культурное пространство многих древних городов Востока (Угарита, Хаттусаса и др.) тоже было мозаично, что, по-видимому, предполагает там довольно пестрый состав населения. Аналогичные сведения выявлены в древней и средневековой Средней Азии и Синьцзяне {Иванов, 2005).
В последние годы в этом аспекте была рассмотрена культура Туркестана позднего периода. Опираясь на массовый этнографический материал XIX-XX вв., собранный этнографами в 1920-1980-х годах в Средней Азии и Казахстане, удалось выделить там несколько своеобразных локальных полиэтнических культурных общностей (гораздо более крупных, чем городские общины), состоящих из разноэтничных группы {Чвырь, 1991; 2001). Ареалы подобных историко-культурных общностей не совпадают с “этническим делением” территории региона. Каждое из них (сообщество северных киргизов и южных казахов, северных таджиков, оседлых узбеков и уйгуров, западных казахов, каракалпаков и кочевых узбеков) состояло из отдельных этнографических групп перечисленных этносов, языки которых обычно относились к одной ветви тюркских языков (“кипчакской”, “огузской” или “карлуской”). Наибольшие языковые отличия отмечены лишь между ираноязычными таджиками и оседлыми тюркоязычными узбеками и уйгурами, поэтому особо следует остановиться на простом и кардинально важном вопросе - как общались между собой члены подобных сообществ со сходной (почти идентичной) культурой?
Двуязычие, или диглоссия, обычно определяется как “одновременное существование в обществе двух языков... применяемых в разных функциональных сферах”, причем вполне сознательно (Лингвистическая энциклопедия, 1990. С. 136; Britannica, 2000. Р. 93). Разные стороны функционирования этого языкового явления изучают не только этнографы (см., например: Тезисы, 2001. С. 185-191; Губогло, 2004), но и другие специалисты. Согласно последним данным нейролингвистики, выделяются как минимум две модели двуязычия {Иванов, 2005. С. 47). Одна была известна давно: у человека, одинаково хорошо владеющего двумя языками (родным и чужим), распределение речевых зон в коре головного мозга совершенно определенно - говорение на родном языке действует возбуждающе на речевые зоны в правом полушарии, а говорение на чужом, позднее выученном языке (он же часто служит основным языком общения в полиэтническом сообществе), - в левом.
Подобная закономерность отмечена у многих народов России и СНГ: у “малых народов Севера” и Дальнего Востока, у туркмена, много лет живущего в Санкт-Петербурге; зафиксирована она и у индейцев навахо в Америке. Наконец, у евреев, переселившихся со всего света в Израиль, левое полушарие, как правило, контролирует основной язык общения там (иврит), а правое - связано с языком страны, откуда евреи приехали (т.е. с “языком детства”).
Другая модель диглоссии выявлена у двуязычных китайцев Сингапура. При обследовании оказалось, что называние ими одних и тех же предметов по-английски и по-китайски - возбуждает нейроны только в одном участке коры левого полушария, т.е. реакция коры мозга и на китайские, и на английские слова абсолютно одинакова. Не исключено, что именно этот второй вариант диглоссии присущ и таджико-узбекскому оседлому населению некоторых районов Туркестана, поскольку, судя по описаниям языковеда и по моим наблюдениям, в быту они говорили на обоих языках сразу, как на одном (и при этом оба языка сохранялись как самостоятельные) {Боровков, 1952). Дальнейшие исследования в этом направлении чрезвычайно желательны.
* * *
Стремительный ход развития современного мира на рубеже XX-XXI вв. ставит перед людьми, человечеством множество проблем, одна из которых так называемая глобальная миграция “голодного Юга” на “сытый Север” -массовые переселения и образования все увеличивающихся диаспор латиноамериканцев в США и Канаде, мусульман из стран Магриба во Франции и Италии, турок в Германии, кавказцев в России, китайцев на Дальнем Востоке.
Этот грандиозный мировой процесс, естественно, требует осмысления и ставит множество новых проблем, одновременно реанимируя некоторые традиционные направления гуманитарных исследований. Не случайно, например, одной из популярных, даже модных ныне тем современной культурологии и истории культуры стала так называемая “Встреча с Другим”, предполагающая целый спектр возможностей индивидуальных и групповых культурных взаимодействий, изучение самого принципа диалогических отношений с Другим, т.е. двух культурных партнеров, выявление разных степеней этой диалогичности и т.п.
В этнографии (этнологии) эта же проблема, естественно, приобрела свой оттенок - “Встречи с другими”, т.е. со многими людьми чужеродной культуры {Рокитянский, 1998; Родионов, 2005. С. 51). Анализируя взаимоотношения этнических групп (в условиях как традиционного, так и современного общества), исследователи обычно ограничивались выявлением стереотипов (уже готовых, сложившихся в массовом сознании семантико-идеологических форм), которые, конечно, играли определяющую роль в их общении. Но при этом оставались неясными конкретные формы и, главное, последствия взаимодействий с “чужими”, “другими” группами, прежде всего этническими (в том числе и близко родственными), а также локально, конфессионально или социально иными.
Анализ и последствия межэтнического взаимодействия - одно из традиционных направлений отечественной этнографии. Его определенно можно оценивать двояко: с одной стороны, значительные достижения - проверенные подходы, мнения, навыки, методики, а с другой - все перечисленное как сложившиеся рамки нередко уже “сковывает видение” ученого, заслоняет новые грани и аспекты проблемы и тем сдерживают научный поиск. Может быть, поэтому этнографы часто не учитывали менее проявленные (по сравнению со стереотипами) факторы, влиявшие на межэтническое общение -ментальные особенности мигрантов и/или местных жителей (т.е. смыслы, ассоциации, идеалы, нормы, предрассудки и т.п., господствовавшие только в одной культурной среде и, как правило, не актуальные вне ее), иными словами - не учитывали чужеродный культурный контекст. Но в публикациях последнего десятилетия все же чаще наблюдается применение новых, непривычных подходов и ракурсов анализа старых этнографических проблем. В итоге многие традиционные для отечественной этнографии направления исследований заметно обновляются, уже сформулировано несколько промежуточных задач - как развиваются отношения партнеров после переселения, каковы последствия “встречи с другими” для этнических групп, абсолютно чужеродных и разного уровня развития, или, наоборот, в условиях их близкого этнокультурного родства.
“Миграционная” тематика увязана также с изучением диаспор, по существу представляющих собой разные формы распространения отдельной культуры ее носителями в новых местах и социально-этнических условиях. Конкретный анализ взаимодействия этнических групп в разных социаль- ных средах, прежде всего в полиэтнических и поликультурных регионах России, сейчас набирает силу и свидетельствует об отходе от привычного исследовательского мифа, что этнос - основной, если не единственный, носитель культуры (Тезисы..., 2001. С. 230-235; 2005. С. 56-66, 349-366; 2007. С. 140-150; 2009. С. 259-269).
Кроме этнографов диаспоры в современной науке широко изучают историки и лингвисты, политологи и социологи, так что среди множества определений наиболее приемлемым для нас сейчас, по-видимому, является такое: это общность людей, культурно отличающихся от окружающего населения страны проживания, и обычно возникающая на базе представлений об общей родине и коллективной солидарности {Тишков, 2003. С. 435-452; ср.: Милитарев, 1999; Попков, 2004). По форме диаспора обычно - сеть общин, образующая “социальную, закрытую, самосоздающуюся коммуникативную систему”, внутри которой вырабатывается “общий набор символических и коллективных репрезентаций”; их общая черта - сознательное конструирование своей идентичности (усиление или сокрытие своих специфических этнорелигиозных и культурных признаков) с целью наилучшей адаптации {Попков, 2004. С. 227, 232, 236).
В этой связи этнографами уже давно установлены некоторые закономерности поведения мигрантов в новой среде и выявлены две основные модели их адаптации, обусловленные, как оказалось, отнюдь не этническим, а социальным фактором. Одна модель предполагала довольно быструю ассимиляцию переселенцев: обычно это были образованные люди, знающие местный язык и владеющие профессиями, которые пользовались здесь спросом; они довольно быстро находили работу, постепенно принимали новый образ жизни и скоро превращались, например, в “американцев китайского происхождения”. Другое дело - люди неквалифицированного труда, крестьяне или рабочие, обычно владевшие только родным языком и поэтому пополнявшие собой ряды безработных. Они, как правило, не могли долгое время существовать самостоятельно и вынуждены были обращаться за помощью к соплеменникам-землякам, т.е. присоединяться к своей этнической общине на новой родине {Нитобург, 2005. С. 120-133 и др. его работы).
Вторую модель адаптации мигрантов, естественно, наиболее массовую и представляющую непосредственный интерес для этнографов, в последние десятилетия удалось изучить подробнее. Очень показательный пример -обследование с этнографической точки зрения семейных ценностей латиноамериканцев, переселившихся в Америку. Оказалось, что механизм их приспособления к новой жизни одновременно типичен и парадоксален и затрагивает самые основания их традиционной культуры {Шалыгина, 2005).
Согласно традиционным установкам первой реакцией мигрантов на американское окружение была консервация своих привычных стандартов жизни и усиление всякого рода родства между “своими”, сплочение (правда, претворилось оно неожиданно: роль, казалось бы, основных - кровнородственных связей, - как ни странно, уменьшилась, но зато расширилась роль так называемого ритуального родства). Однако очень скоро пришло и осознание противоположной необходимости - чтобы выжить в новых условиях, нужна
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. была как раз открытость местной культуре, пересмотр старых установок. В этих двух координатах и формировались новые устои жизни мигрантов, в том числе и семейной.
Прежде всего в семье и общине пуэрториканцев кардинально изменились половозрастные роли. Самыми неприспособленными в изменившихся условиях оказались мужчины: отсутствие актуальных профессий и трудности с работой, а главное - неспособность быстро отказаться от привычного образа жизни, от присущей латиноамериканцам поведенческой модели “мачизма”, -все это довольно быстро изменило их семейный статус. Вследствие этого, в свою очередь, усилилась групповая мужская солидарность, стала возрастать агрессия и на их основе, как обычно, расцвел этноцентризм, нередко даже ведущий к так называемому “этническому бандитизму”. Любопытно, что эта линия мужского поведения проявлялась и внешне - в заметной особой одежде, даже походке, специальном сленге и пр.
Совсем по-иному, тоже довольно неожиданно, в сложившейся ситуации проявили себя женщины, обычно составляющие наиболее консервативный элемент традиционного общества. В новой непривычной ситуации женщины продемонстрировали немалую гибкость и высокую приспособляемость: они находили себе работу (прислуги, официантки, няни и пр.), они всех кормили, внутрисемейные роли изменились, и постепенно сложилась новая матрифо-кальная семья (многопоколенная структура с женщиной во главе, со счетом родства преимущественно по женской линии). Любопытно изменилось и поведение детей: они быстрее взрослых принимали стандарты американской жизни, усваивали и осваивали новые материальные и социокультурные ценности, что, безусловно, явилось залогом будущего выживания всей группы и ее дальнейшего “внедрения” в североамериканское общество, с нахождением в нем своей культурной “ниши” и сохранением определенной доли автономности.
Ныне культуру пуэрториканской диаспоры в США исследователи характеризуют как двойственную: внешне заметен своеобразный расцвет их традиционной культуры - несколько демонстративный и в то же время упрощенный ее вариант теперь в первую очередь выполняет престижную функцию. С другой стороны, показательно трансформировалось их самосознание - лишь половина мигрантов теперь называются пуэрториканцами, никто не считают себя “американцем” (и не стремится к этому), зато вторая половина уже считает себя полуамериканцами-полупуэрториканцами {Шалыгина, 2005). Типичность рассмотренного примера еще предстоит доказать, но в самих этих описаниях несомненно узнаваемы многие черты поведения, парадоксального самосознания и развития культуры, например, кавказских мигрантов, расселившихся по южным и среднерусским городам России.
* * *
Иные варианты “встреч с другими” группами представлены в этнографических исследованиях народов России. На целом ряде конкретных примеров выделена любопытная тенденция - у нескольких этнических групп, сосу- ществующих достаточно длительное время в географически относительно ограниченном пространстве, нередко складывается общая культура, хотя степень и глубина этого единства может быть разной.
Так, например, терское казачество представляет собой своеобразный феномен, образовавшийся вследствие постепенного слияния (в XVT-XIX вв.) разных групп, этнических (русских, украинцев, северокавказцев и др.) и религиозных (православных и старообрядцев, “сектантов”). В результате казаки образуют очевидное культурное и хозяйственное единство (хотя еще и не до конца консолидированное) {Тхамокова, 2001. С. 228). Несколько позднее, в XVIII-XIX вв. левый берег Терека кроме казаков заселили караногаи, армяне, грузины и другие, небольшие, этнические группы. Их традиционная культура отражает один из вариантов культурного взаимодействия: заимствования друг у друга в скором времени способствовали образованию общей повседневной бытовой культуры, хотя каждая группа сохранила при этом свое этническое самосознание и отчасти язык {Великая, 2001. С. 223).
В других регионах Росссии, например, в Татарстане, выявлена аналогичная тенденция, здесь тоже вполне очевиден слой общей бытовой культуры (наднациональный), но, видимо, глубина его распрстранения не столь велика, наряду с ним сохраняется и заметная бытовая специфика, и представления об этнической и конфессиональной принадлежности, и родной язык как у татар, так и у русских - двух самых крупных коренных этносов республики {Столярова, 2001. С. 227).
Отрывочные наблюдения подобного рода из разных уголков России многочисленны, но пока еще не обобщены, хотя совсем недавно в этом же ключе были проанализированы данные о мигрантах восточнославянского происхождения в Сибири {Фурсова, 2004). Но автор этого исследования пошла в своем анализе дальше, выявив (на примере изменений в их традиционной обрядности) принципы межкультурного взаимодействия в особой среде - близкородственного населения.
Сравнивая традиции в разное время и из разных мест мигрировавших сюда групп русских, украинцев и белорусов, она поначалу констатировала вполне очевидное - их культурное единство (особенно на фоне коренных этносов). Но дальнейший детальный анализ позволил выявить основные этапы и интересные метаморфозы культурного развития каждой группы мигрантов-славян. Было установлено, что формирование их культурного единства и дальнейшее его развитие протекало через постоянное противоборство двух тенденций - интеграции и дифференциации, что в итоге привело к разным трансформациям исходных культурных форм. Кроме того, была выявлена еще одна их характерная закономерность - долгая и сильная культурная инерция: обрядово-культурная близость славянских групп здесь, в Сибири, долгое время определялась их этнокультурной ориентацией еще на европейской родине (т.е. до миграции), и лишь потом уже зависела от окружения на новом месте.
Из двух основных волн восточноевропейских мигрантов в Сибирь “старожилов” (XVI-XVIII вв.) и более поздних переселенцев (XIX в.) -культурно доминировали, как правило, первые, т.е. старожильческая (более
9. КСИА, вып. 223
архаичная) традиция. А среди самих поздних переселенцев сначала происходило размежевание, а затем постепенное, путем совмещения и наложения разных локально-своеобразных обрядовых признаков, формирование новой, единообразной культуры. При этом влияние мощной архаической традиции выражалось не столько в прямых заимствованиях из нее, сколько в стимулировании взаимно сходных по форме и содержанию обычаев и обрядов и, напротив, в подавлении и скором исчезновении совсем непохожих, оригинальных обрядовых признаков, вследствие этой “культурной интерференции” в среде чрезвычайно смешанного восточнославянского населения Сибири заметно усилились элементы славянской архаики и начали проступать черты складывающейся новой, синтезированной культуры, за которой (по логике автора) уже маячила нарождающаяся этническая общность (Фурсова, 2004. С. 3 3-3 8).
Этнографические изыскания в области межкультурных взаимодействий, особенно в полиэтнических обществах разного типа, еще только разворачиваются. Огромный опыт, ранее накопленный отечественной наукой в этом направлении, и освоение современных ракурсов и способов анализа, безусловно, скажется и на эффективности археолого-этнографического взаимодействия, дело лишь за внятностью поставленной цели.
Список литературы Этнографические заметки о проблеме миграций
- Абрамзон С.М., 1960. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии//Тр. Киргизской археолого-этнографической экспедиции. М. Т. 4.
- Андрианов Б.В., 1961. Карта народов Средней Азии и Казахстана//Тр. Института этнографии. М. Т. 48.
- Антропологический форум. СПб, 2005. Спец. вып.
- Арутюнов С.А., 1989. Народы и культуры: Развитие и взаимодействие. М.
- Археология узбекской идентичности//ЭО. 2005. № 1.
- Берк П., 2005. Историческая антропология и новая культурная история//Новое литературное обозрение. М. № 75.
- Бикжанова М.А., Сухарева О.А., 1955. Прошлое и настоящее селения Айкыран. Ташкент.
- Боровков А.К., 1952. Таджикско-узбекское двуязычие и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков//Тр. ИВ АН СССР. М. Т. 4.
- Брусина О.И., 2001. Русские старожилы в узбекском обществе: "свои" или "чужие"?//Среднеазиатский этнографический сборник. М. Вып. IV.
- Бутанаев В.Я., 2001. Следы печального прошлого хакасского этноса//IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик. Быт колхозников киргизских селений Дархан и Чичкан. М., 1958.
- Великая Н.Н., 2001. Межэтнические контакты на территории Терского левобережья в XVIII-XIX в.//IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик.
- Винников Я.Р., 1956. Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии//Тр. Киргизской археолого-этнографической экспедиции. М. Т. 1.
- Губогло М.Н., 2004. Русский язык в этнополитической истории гагаузов. М.
- Гучинова Э.-Б.М., 2004. Вынужденные переселения и этническое самосознание (на примере этнополитической истории калмыков в XX веке)//Автореф. дис.... д-ра ист. наук. М.
- Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П., 1954. Культура и быт таджикского колхозного крестьянства. М.; Л.
- Жданко Т.А., 1958. Быт колхозников-переселенцев на вновь освоенных землях древнего орошения Каракалпакии//Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М. Т. 2.
- Жданко Т.А., 1961. Проблема полуоседлого населения и история Средней Азии и Казахстана//СЭ. № 2.
- Иванов В.В., 2005. Интервью//Антропологический форум. СПб. Вып. 1.
- Олкотт М.Б., Тишков В., Малашенко А. (отв. ред.). Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997.
- Кармышева Б.Х., 1979. О торговле в восточных бекствах Бухарского ханства//Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М. Культура и быт казахского колхозного аула. Алма-Ата, 1967. Лингвистическая энциклопедия. М., 1990.
- Малъкова В.К., 2004. Москва -многокультурный мегаполис. М.
- Мартынова М.Ю., 2004. Мир традиций и межкультурное общение. М.
- Тишков В.А., Филиппова Е.И. (оед.). Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах: Ежегодный докл. 2003 г. М., 2004.
- Милитарев А.В., 1999. О содержании термина "диаспора"//Диаспоры. М. № 1.
- Нитобург Э.Л., 2005. Из истории русских общин в американском городе//ЭО. № 2.
- Попков В.А., 2004. Диаспора: Проблемы идентичности, структуры и организации сетей связей//Социальная история: Ежегодник. 2001-2002. М. Прикладная и неотложная этнология. М., 2004.
- Родионов М.А., 2005. Социум и предметный мир в традиционных обществах Азии//VI Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. СПб.
- Рокитянский В.Р., 1998. Время встречи: Этнограф и "другой": логика развития этнографического самосознания в XX в.//Гуманитарный симпозиум "Открытое общество и сооб-щаемость культур". М.
- Соколовский С.В., 2001. О кризисе российской этнографии: сравнение внешних и внутренних оценок//IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик.
- Столярова Г.Р., 2001. Русские в Татарстане//IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик.
- Тезисы..., 2001. IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик.
- Тезисы..., 2005. VI Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. СПб.
- Тезисы..., 2007. VII Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Саранск.
- Тезисы..., 2009. VIII Конгресс этнографов и антропологов России. Тез. Оренбург.
- Тишков В.А., 2003. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.
- Тишков В.А., Степанов В.В. Измерения конфликта. М., 2004
- Тендера М.Е., 2005. Полиэтничность и мультикультурализм в структуре американской нации: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.
- Тхамокова И.Х., 2001. Терское казачество//IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. Нальчик.
- Фурсова Е.Ф., 2004. Календарная обрядность восточнославянских народов в Приобье, Барабе и Кулунде: межкультурные взаимодействия и трансформации первой трети XX в.: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. Новосибирск.
- Чвырь Л.А., 1991. Одна актуальная проблема этнографии народов Средней Азии и Казахстана//Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М. Вып. III.
- Чвырь Л. А., 1994. Заметки об этническом самосознании уйгуров//ЭО. М. № 3.
- Чвырь Л.А., 2001. Культурные ареалы и этнонимы//МИФ. София. № 7.
- Чвырь Л.А., 2002. Этноконфессиональное сознание у народов Туркестана//Вестник Евразии. М. № 2.
- Шалыгина Н.В., 2005. Изменение семейных ценностей в эмиграции: (США. Пуэрториканская модель): Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.
- Шоберлайн-Энгел Д., 1997. Перспективы становления национального самосознания узбеков//Восток. М. № 3.
- Ab Imperio. Казань, 2006. № 1. 9* Britannica: Mikropaedia. London, 2000.