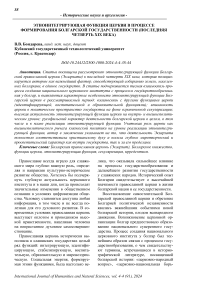Этноинтегрирующая функция церкви в процессе формирования болгарской государственности (последняя четверть XIX века)
Автор: Бондарева В.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 4-4 (91), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению этноинтегрирующей функции Болгарской православной церкви (Экзархата) в последней четверти XIX века, которая позиционируется автором как важнейший фактор, способствующий собиранию земель, населенных болгарами, в единое государство. В статье подчеркивается тесная взаимосвязь процесса создания национального церковного института с процессом государствообразования у болгар, и выявляются характерные особенности этноинтегрирующей функции Болгарской церкви в рассматриваемый период: взаимосвязь с другими функциями церкви (идентифицирующей, воспитательной и образовательной функциями); вписанность церкви в политическое пространство государства на фоне ограниченной секуляризации; высокая актуальность этноинтегрирующей функции церкви на внутри- и внешнеполитическом уровне; русофильский характер деятельности болгарской церкви в целом, в том числе и в плане реализации этноинтегрирующей функции. Учитывая роль церкви как внешнеполитического рычага княжеской политики на уровне реализации этноинтегрирующей функции, автор в заключении указывает на то, что деятельность Экзархата полностью соответствовала христианскому духу и носила глубоко миротворческий и просветительский характер как внутри государства, так и за его пределами.
Болгарская православная церковь (экзархат), болгарское княжество, функции церкви, этноинтегрирующая функция, секуляризация, ирредентизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170205688
IDR: 170205688 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-4-4-38-44
Текст научной статьи Этноинтегрирующая функция церкви в процессе формирования болгарской государственности (последняя четверть XIX века)
Православие всегда играло для славянского мира глубоко важную роль, определяя и направляя культурно-историческое развитие общества. Хотелось бы подчеркнуть глубокую актуальность церковного института и в наши дни, когда происходят значительные изменения в общественном сознании в условиях цифровизации общества. Человеку становится доступна любая информация, в том числе и не всегда полезная для его духовного развития. В современных условиях православная церковь выступает оплотом и проводником высокой нравственности, нацеливая человека на непрестанное духовное самосовершенствование.
Православная церковь исторически выполняла в славянских государствах целый ряд функций: интегрирующую, идентифицирующую, стабилизирующую, воспитательную, образовательную и мировоззренческую. Социальная энергия, формируемая этими функциями, была настолько ве- лика, что оказывала сильнейшее влияние на процессы государствообразования и дальнейшего развития государственности у славянских народов. Исторический опыт Болгарии свидетельствует о высочайшей значимости православной церкви в жизни болгарской нации и ее государственности.
Восстановление самостоятельной Болгарской православной церкви и обретение Болгарией политической независимости явились важнейшими событиями новой болгарской истории, плодом всенародного движения. Возникновение церковной организации болгар предшествовало образованию национального суверенного государства. Процесс создания национального церковного института у болгар был теснейшим образом связан с процессом госу-дарствообразования, о чем свидетельствуют термины, встречающиеся в историографической литературе, посвященной болгарской истории: «церковно-народный вопрос», «церковно-национальная борь- ба», «национальное движение» и т.д. [1, с. 144, 156, 312; 2, с. 71]. Ключевой функцией Болгарской православной церкви являлась этноинтегрирующая функция, проявлявшая себя как в период османского владычества, так и в эпоху Освобождения Болгарии (1878 г.) и последующего развития ее государственности.
Экзархия предстала первым легитимным национально-политическим институтом, выступая своего рода прообразом нации и государственности на начальном этапе освободительного движения. Данная взаимосвязь имела решающее последствие для всей дальнейшей истории взаимоотношений светской власти и духовенства. Святые отцы Экзархата видели будущее государство непременно конфессиональным: в дихотомном отношении «власть– церковь» второе понятие подчиняло себе первое, сопрягая интересы общественности с интересами церкви и наоборот. И если в догосударственный период истории Экзархийской церкви данная модель выступала как вполне объективная и единственно возможная форма организации национально-политической действительности болгар, то с возникновением государства она начала трансформироваться, изменяя свое прежнее доминантное начало: государство стремилось утвердить свой приоритет по отношению к церкви и перераспределить функциональные роли во взаимодействии с ней (особенно это проявилось в вопросе об избирательных правах болгарского духовенства, которые постепенно сокращались) [3, с. 116-118; 4, с. 16].
Важным фактором, оказавшим влияние на динамику этих процессов, явился полу-суверенный статус болгарского государства, ставивший ограниченную в своих возможностях светскую власть до определенного времени в зависимость от духовного института. Стоявшие перед Болгарским княжеством объединительные задачи (воссоздание территории страны в границах Сан-Стефанского договора 1878 г.) детерминировали активную роль церкви в политической жизни государства (использование Экзархата в качестве рычага княжеской политики ирредентизма в отноше- нии македонских земель), вписывая ее, тем самым, в политическое пространство.
Данное обстоятельство наряду с неразвитостью собственно политических институтов и социально-экономической отсталостью страны определило собой ограниченность секуляризационных процессов в отношении духовенства , не позволивших утвердить основополагающий для модернизации принцип отделения церкви от государства. Этим, собственно говоря, во многом и объясняется специфика институ-ционарного устройства Болгарского княжества, в рамках которого Экзархат выступал, прежде всего, как особый социальный институт, оказывающий влияние на направленность не только внутренней, но и внешней политики [5, с. 41-45].
После Освобождения Болгарии правительство решило использовать национальную церковь в осуществлении государственно-национальных интересов, стремясь посредством религиознопросветительской деятельности сформировать у болгарского населения Македонии и Фракии народное (болгарское) самосознание и поддержать тот национальный дух, который явится впоследствии важнейшей предпосылкой для совмещения границ нации с границами государства [6, д. 55, л. 49]. Таким образом, актуальность интегрирующей функции Болгарской православной церкви сохранялась и после Освобождения Болгарии, поскольку значительная часть болгар продолжала оставаться вне пределов болгарского государства [7, с. 192-196].
Исторический опыт болгарской политической практики позволяет трактовать болгарское духовенство как миротворческую силу чисто в христианском духе, что во многом обуславливалось позицией главы Болгарской православной церкви экзарха Иосифа I, полагавшего, что ни личные, ни партийные интересы не могут быть выше государственно-национальных. При этом хотелось бы конкретизировать, что болгарское духовенство в политическом отношении имело свои конкретные предпочтения, считая, что без России Болгария не мыслима. Россия со своей сторо- ны уделяла большое внимание поддержке болгарского духовенства.
Материалы российских архивов содержат свидетельства об обсуждении российской стороной вопросов развития социально-политической ситуации Болгарии в последней четверти XIX, включая положение болгарского духовенства, нуждавшегося в активной дипломатической и материальной поддержке со стороны России [8, д. 960. л. 2; Там же. д. 962. л. 2; Там же. д. 960. л. 1-2]. Болгарское духовенство было крайне обеспокоено русофобской линией политической элиты Болгарии в последней четверти XIX века и видело большую опасность в отдалении от православной России-освободительницы, сыгравшей огромную роль в становлении и политическом развитии болгарского государства после Освобождения турецкого гнета в 1878 году, заботившейся об укреплении и развитии Болгарской православной церкви, исторически выступавшей фундаментом болгарской государственности и хранительницей болгарской национальной идеи [9, с. 21-28] (особенно в период османского владычества, когда православная церковь и монастыри являлись практически единственными хранителями национального духа болгар, их языка и литературы как важнейших элементов этнической идентификации и интеграции [10, с. 157; 11, с. 416; 12, с. 154; 13, с. 416-418; 14, с. 131, 256]).
Для Болгарской православной церкви была очень значима поддержка России, благодаря чему она значительно расширяла свои возможности в осуществлении этноинтегрирующей функции. Забота о церкви выступала особым направлением русской дипломатической миссии в Болгарии, нацеленной помимо политического благоустройства на обустройство духовных учебных заведений и в целом на поддержку духовенства [8, д. 987. л. 8]. После подписания Берлинского договора (1 июля 1878 г.) Болгарская православная церковь столкнулась с рядом важных и трудноразрешимых проблем: укрепление экзархий-ского ведомства в неосвобожденных болгарских землях с целью сохранения духовного единства расчлененной болгарской национальной общности; освобождение из тюрьмы болгарских заключенных, осужденных турками (в числе которых находился и первый болгарский экзарх Ан-тим) [8, д. 1927. л. 1-3.]; возмещение огромного материального ущерба, нанесенного церковно-храмовому хозяйству в результате русско-турецкой войны 18771878 гг., проведение необходимой коррекции в организации экзархийского административного управлении вследствие изменившихся общественно-политических условий и т.д. Возникшие проблемы болгарское духовенство пыталось частично разрешить за счет активной поддержки русского управления в Болгарии, выделявшего средства на восстановление храмов и богословских училищ, предоставлявшего болгарским церквям необходимую утварь (облачения для священников; сосуды для совершения обрядов причастия, миропомазания, крещения; покровы для священного престола т.д.) и богослужебную литературу (псалтири, требники, четьи-минеи, часословы и т.д.) [15, д. 325. л. 66, 67; 16, д. 4062. л. 1-2].
Несмотря на ряд существующих проблем в церковной жизни, духовенство, по оценкам русских дипломатических представителей в Болгарии, обладало огромной силой и авторитетом в глазах всей болгарской общественности, в результате чего, могло оказывать ощутимое воздействие на социально-политические процессы, протекавшие в болгарском княжестве после Освобождения (1878 г.), вплоть до свержения русофобского правительства неугодного русофильски настроенному духовенству [8, д. 960. л. 1-2].
Столкновение социально-политических взглядов духовенства и правительства создавало почву для жесткой конфронтации между ними, которая и без того нарастала в условиях развивающихся процессов секуляризации и усиления тенденций светскости во внутриполитической жизни Болгарского княжества в последней четверти XIX века. Русофильские предпочтения болгарского духовенства не устраивали русофобски настроенные политические верхи Болгарии, и, тем не менее, болгарское правительство не стремилось полно- стью разрывать союз с церковью, в которой видело мощную силу, способную, с одной стороны, препятствовать распространению социалистической пропаганды внутри Болгарии (стабилизирующая функция церкви), с другой стороны, активно содействовать собиранию болгарских земель во внешней политике (этноинтегрирующая функция церкви). Стремление болгарского правительства опираться на Экзархат в решении задач внутренней и внешней политики, не смотря на его русофильство и сопротивление секуляризации, в свою очередь также свидетельствует о большой общественной силе, которую исторически сосредоточила в себе Болгарская православная церковь.
Как уже было отмечено выше, с возникновением независимого государства консолидация болгар была далеко не завершена [17, с. 742]. Поэтому с первых дней существования государства одной из важнейших внешнеполитических задач являлось объединение болгарских земель в рамках единого государства согласно модели Сан-Стефанского мира 1878 г. по которому должно было образоваться на территории от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера автономное Княжество Болгария. В основу консолидационной политики был положен национальный признак, являвшийся сущностной характеристикой и Болгарской православной церкви и самого Болгарского княжества. Одним из важнейших механизмов реализации выше обозначенной задачи выступало экзархийское просвещение, призванное создать основу для групповой идентификации македоно-фракийского населения как болгарского, чтобы в дальнейшем обеспечить на основании духовно-идеологического единства болгар и единство геополитическое, т.е. в границах одного государства. В данном случае мы сталкиваемся с уникальной этноинтегрирующей функцией православной церкви, проявляющей себя не только в условиях раннесредневекового политоге-неза, но и в рамках нового и новейшего времени.
Софийское правительство необыкновенно горячо на рубеже нового и новейше- го времени стремилось воплотить в жизнь мечту Великой (Целокупной) Болгарии посредством экзархийского просвещения, подкрепленного впоследствии военнополитическими методами. Возникает вопрос, почему в отношении Фракии и Македонии нельзя было действовать также как и в отношении Восточной Румелии в 1885 г., которая была присоединена к Болгарии после крупного болгарского восстания? Здесь необходимо учитывать следующие обстоятельства:
-
1) Фракия и Македония, имели иной по сравнению с Восточной Румелией международный политический статус, являясь турецкими вилайетами;
-
2) Болгарское княжество согласно Берлинскому трактату 1878 г. носило полусу-веренный статус и обладало слабыми военными силами сразу после Освобождения Болгарии;
-
3) вопрос об этнической принадлежности македоно-фракийского населения нельзя было решить однозначно, что неоднократно отмечали и греки, и турки, и русские и сами болгары [18, с. 33-43].
Глава Болгарской православной церкви, Экзарх Иосиф, в частности, более всего опасался сербского фактора (и на то были свои причины), хотя обозначенный регион выступал средоточением действия помимо сербской, еще и греческой, австрийской, румынской и албанской пропаганд.
Указанные обстоятельства и определили деятельность Болгарского Экзархата в качестве приоритетного над военными методами механизма в плане реализации софийским правительством политики ирре-дентизма, что проявилось, прежде всего, в решениях Учредительного Собрания, открывшегося в Софии в феврале 1879 г.: в конституции Княжества православие было зафиксировано как государственная религия (статья 38) [19, с. 55]. Необыкновенно ценной для сущностного понимания этноинтегрирующей функции Болгарской православной церкви в процессе реализации доктрины болгарского национализма выступает докладная записка министра иностранных дел и исповеданий К. Стоилова от 17 декабря 1882 г., заключающая в себе общую позицию политической элиты Бол- гарии и адресованная болгарскому князю Александру Баттенбергу. В данной записке отмечалось, что национальную и социокультурную идентификацию возможно обеспечить только через посредство церковного просвещения, направленного не только на образование, но и воспитание молодого поколения неосвобожденных (турецких) болгар в духе глубокой преданности национальной болгарской идее и истории. «Каждый македонец должен проникнуться сознанием, – писал министр, – что в Софии заботятся о его судьбе, о его настоящем, о его будущем» [20, д. 3245. л. 31-39]. Важно отметить, что просвещение как таковое находилось в ведении Экзархата не только в пределах турецких вилайетов, но и в самой Болгарии – речь идет, главным образом, о начальном образовании, целью которого провозглашалось религиозно-нравственное воспитание болгарской молодежи. Закон Божий указывался в числе первых в списке полагающихся предметов.
Участие церкви в образовательном процессе Болгарии в последней четверти XIX века указывает на ограниченную природу секуляризации: правительство, проводя реформу, учитывало, прежде всего, два факта:
-
1) вероятность протеста со стороны христианского населения, не согласного с перестройкой образовательной системы на светский лад;
-
2) возможность опасного для существующего режима натиска со стороны социалистической пропаганды, которую весьма успешно способно сдерживать церковное просвещение.
Следует отметить, что этноинтегрирующие функции Болгарской православной церкви, столь явственно проявившиеся в последней четверти XIX столетия, на наш взгляд, нельзя связывать только с внешнеполитическими задачами, которые не представлялось возможным разрешить светскими методами ввиду ряда причин (полусуверенного статуса Македонии и Фракии, международного положения самого Болгарского княжества, а также неоднозначностью решения вопроса об этнической принадлежности населения в пределах турецких вилайетов).
Этноинтегрирующие функции Экзархата проявляли себя и во внутриполитическом пространстве Болгарии, объединяя народ страны в единое целое за счет обеспечения идеологической унификации и укрепления позиций культурноисторической преемственности. Отчасти, высокая актуальность этноинтегрирующей функции Болгарии исторически определялась самой сущностью Болгарского княжества, страдавшего в последней четверти XIX века от недостатка развития капитализма и гражданского общества, и от того напрямую тяготевшего к единоличному принципу управления, так прекрасно согласовывающемуся с христианской доктриной, провозглашавшей верховного правителя помазанником Божиим. Данная тенденция нашла свое конкретное воплощение в тезисе о «Союзе Церкви и Короны», вполне явственно обозначенном в совместных обращениях друг к другу Его Царского Высочества князя Фердинанда Кобургского и Его Блаженства экзарха Иосифа I по случаю юбилейной даты пребывания последнего во главе Болгарской православной церкви. Признавая огромные заслуги Иосифа I на просветительском поприще во Фракии и Македонии, Фердинанд называл себя преданным ему во Христе сыном и отмечал свои искренние чувства, и даже привязанность, по отношению к персоне Его Блаженства. При этом необходимо учесть, что отношения церкви и государства в Болгарии на протяжении последней четверти XIX века складывались по-разному: от сотрудничества к противостоянию (вплоть до жесткой конфронтации).
Глава болгарской православной церкви, экзарх Иосиф I, продолжал заниматься просвещением в турецких вилайетах вплоть до Балканских войн (1912-1913 годы), ввиду чего церковь выступала в роли главного рычага в болгарской политике собирания земель. Однако после создания Внешнего македоно-одринского комитета (1895 год) и активации правительством военных методов реализации объединительных задач в конце 1890-х гг., что было связано как с экономическим развитием Болгарии, ростом ее военного потенциала, так и общими процессами расширения рамок секуляризации (отделения церкви от государства), церковь перестала играть ключевую роль в объединительной политике Болгарии.
Таким образом, в последней четверти XIX века Болгарская православная церковь выступала важнейшим внешнеполитическим рычагом, реализовывавшим этноинтегрирующую функцию в пределах земель, населенных болгарами и не вошедших в состав Княжества согласно Берлинскому трактату в 1878 году. Несмотря на то, что деятельность Экзархата являлась частью внешней политики правительства Болгарии в последней четверти XIX века, она полностью соответствовала христианскому духу и носила глубоко миротворческий и просветительский характер. Важной ха- рактеристикой этноинтегрирующей функции Болгарской церкви была теснейшая взаимосвязь с другими функциями: идентифицирующей, воспитательной и образовательной, поскольку именно в процессе реализации трех выше обозначенных функций становилась возможной интеграция болгарского этноса в единое государство. В условиях нараставших секуляризационных процессов и развивавшихся среди политической элиты Болгарии русофобских тенденций поддержка России была важнейшим фактором, обеспечивающим и поддерживающим социальнополитическую силу и мобильность Болгарской православной церкви в плане реализации ею этноинтегрирующей функции. Этноинтегрирующая функция церкви проявляла себя как во внешнеполитическом, так и во внутриполитическом аспекте истории Болгарского княжества.
Список литературы Этноинтегрирующая функция церкви в процессе формирования болгарской государственности (последняя четверть XIX века)
- Ников П. Възраждане на Българския народ. Църковно-национални борби и постижения. - София: Наука и изкуство, 1971. - 403 с.
- Болгаро-российские общественно-политические связи (50-70-е гг. XIX в.). - Кишинев: Штиинца, 1989. - 265 с.
- Бондарева В.В. Болгарский экзархат в 1878-1897 гг.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Кубанский государственный университет. - Краснодар, 2006. - 210 с. EDN: NNYFEF
- Бондарева В.В. Болгарский экзархат в 1878-1897 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Кубанский государственный университет. - Краснодар, 2006. - 25 с. EDN: NKAQSR
- Бондарева В.В. Институционарный порядок власти и церкви в христианско-историческом пространстве. Болгарский феномен // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - №10-2 (48). EDN: QQVJGI