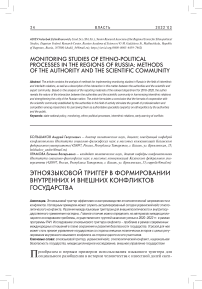Этноязыковой триггер в формировании внутренних и внешних конфликтов государства
Автор: Большаков Андрей Георгиевич, Храмова Евгения Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Круглый стол
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Этноязыковой триггер эффективен в воспроизводстве этнополитической напряженности и конфликтов. Наглядным примером может служить актуализированный сегодня украинский кейс этнополитического конфликта. Различия между языковым триггером для внешнеполитического и внутригосударственного применения наглядны. Главное отличие можно определить на материалах междисциплинарного исследования проблемы, осуществленного группой казанских ученых в 2020-2022 гг. в рамках программы РАН. Исследование этноязыкового триггера конфликта - проблема в рамках современных международных отношений в плане сохранения и развития безопасности государства. Угрозой для нее может стать прямое управление государством со стороны внешних политических акторов с целью регулирования внутреннего языкового конфликта на стороне одного из его участников.
Этноязыковой триггер, украинский кейс, этнополитический конфликт, национальная безопасность государства, междисциплинарное исследование, внешнее управление государством
Короткий адрес: https://sciup.org/170194558
IDR: 170194558 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9038
Текст научной статьи Этноязыковой триггер в формировании внутренних и внешних конфликтов государства
Тому мы наблюдаем массу примеров только за последний век истории человечества: достаточно вспомнить значимость языкового триггера в конфликтах, порожденных «парадом суверенитетов» 1990-х гг. на волне распада СССР, языковые противоречия в республиках Российской Федерации в 2017–2018 гг., языковую ситуацию постоянной напряженности в Индии с ее порядка 1 650 языками и диалектами (особенно кризис 1965–1967 гг.), ситуацию вокруг двуязычия в Канаде; обстановку в Каталонии, на Балканах, Кипре и во множестве других регионов, где языковой триггер оказывается конфликтообразующим.
Наиболее используемой технология запуска этноязыкового триггера становится в последние десятилетия. Причин этому видится несколько: во-первых, ослабление роли части языков так называемых малочисленных народов (например, по данным проекта «Языки под угрозой исчезновения»1, ряд языков РФ, фигурирующих в ситуации языковой напряженности 2017– 2018 гг., являются вымирающими); во-вторых, глобализационные аспекты, все более стимулирующие население планеты к изучению вместо родных так называемых языков международного общения (в этом контексте, учитывая демографический фактор, в ближайшем будущем можно спрогнозировать противостояние, например, английского, испанского и китайского языков); в-третьих, становящийся все более заметным передел полярности мира в большинстве случаев базируется на конфликтах «цветных революций» и «гибридных войн», инициируемых часто именно этноязыковым триггером для ускорения и «эффективности» процесса раскола общества на определенной территории.
Для всех названных выше причин дифференцирующим (на «мы» и «они») и радикализирующим маркером для этнических групп становится язык. Поскольку в упрощенном фреймовом мире современные поколения оперируют и манипулируются простым, доступным для каждого контентом, то и идентичность приобретает в этом контексте весьма упрощенный вид: говоришь не на том языке – ты не «свой», значит «чужой», значит «враг». Более сложные структурные единицы идентичности, например гражданственность, в сознании современных поколений представлены весьма слабо, зачастую просто затушеваны системами образования. На фоне этого языковой триггер посредством современного информационного пространства в сжатые сроки способен «раскачать» любую физическую или виртуальную толпу по классической схеме Г. Лебона, Г. Тарда и др. классиков теории толпы [Лебон 2018; Тард 2016].
Наглядным примером в этом контексте может служить украинский кейс пролонгированного этнополитического конфликта, спровоцированного нормативно-законодательным ограничением, а затем и практическим запретом полнообъемного использования русского языка на территории данного государства.
В 1991 г. Украина приобретает независимость в результате распада Советского Союза. Политическим курсом в конструировании нового государства стал концепт под названием «украинство», в котором наиболее важным является развитие украинского языка.
В своих действиях украинская политическая элита отталкивалась от утверждения, что этот язык подвергался гонениям в советский период и нуждается в возрождении. Поэтому закрытие русских школ в постсоветский период стало нормой для всего украинского государства, а не только для его западных областей. При этом забывали тот факт, что украинский язык и украинская литература были обязательными предметами изучения во всех советских школах на территории современной Украины.
Сокращение числа русских школ и выход на первое место школ с украинским языком не уменьшило потребности населения страны в русском языке. По некоторым данным, русским языком в быту пользуются более 80% населения [Gradirovski, Esipova 2008]. Сначала на Западной Украине, а затем и на юго-востоке Украины русский язык стали запрещать, о его использовании можно пожаловаться в органы местной власти. Преподавательский состав постепенно был переведен в режим «отсутствия использования русского языка» во время осуществления трудовых обязанностей. Постепенно русский язык был отменен в большинстве вузов, к 2014 г. он оставался только в некоторых технических университетах и в Крыму.
Движение в сторону языкового баланса стало заметным на Украине в 2010– 2014 гг. В этот период к власти в стране приходит президент В. Янукович. Но перелом не наступил, а после государственного переворота в 2014 г. положение русского языка во многом ухудшилось. Пришедшие к власти националисты (бандеровцы) поставили задачу по искоренению всего, что связано с культурой русского мира.
В 2014 г. был принят закон о высшем образовании, где содержалась норма, что языком преподавания является исключительно украинский язык. Украинизации, зачастую насильственной, подверглись территории Луганской и Донецкой обл., оставшиеся под властью украинского государства (запрет преподавания на русском языке, увольнения за незнание украинского языка, смена уличных вывесок и др.). В 2016 г. президент П. Порошенко озвучивает идею, что в украинских школах вторым языком должен быть английский, а не русский язык.
В 2019 г. Украина принимает новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает преподавание на языках национальных меньшинств в детских садах и начальной школе (в коммунальных образовательных учреждениях, где для этого создаются специальные классы), а вот выпускные экзамены должны сдаваться только на украинском языке. В вузах для преподавания можно использовать украинский и, наряду с ним, языки стран Европейского союза.
Согласно закону, все массовые мероприятия должны быть украинизированы, фильмы и театральные постановки должны идти с синхронным переводом или субтитрами. Все попытки вводить элементы многоязычия являются посягательством на конституционный строй Украины. Закон предусматривал введение должности уполномоченного по языку, который должен следить, чтобы украинский язык не подвергался дискриминации.
Президент В. Зеленский и контролируемая его сторонниками Верховная рада Украины не стали вносить никаких изменений в действующий закон. А в 2021 г. на Украине вступает в силу закон об использовании государственного (украинского) языка в сфере обслуживания, согласно которому услуги клиенту на отличном от государственного языка возможны только по просьбе клиента и при обоюдном согласии сторон. Несмотря на то что В. Зеленский был избран преимущественно за счет голосов жителей юго-востока и центра Украины, концепт «украинства» усиленно внедрялся государственной машиной пропаганды в умы граждан и объявлялся «защитной реакцией» страны на «российскую агрессию» в годы ее правления.
24 февраля 2022 г. Россия начала военную спецоперацию на Украине, одной из политических задач которой является денацификация политической системы страны, в т.ч. обеспечение реальных прав и гарантий на использование и развитие своего языка всем проживающим на ее территории независимо от их национальности и социального положения.
Вопрос позиции относительно данной акции внутри российского общества может быть проанализирован в контексте понимания различными группами населения значимости и эффекта использования языкового триггера внутри государства. На основании проводимого с 2020 г. междисциплинарного иссле-дования1 авторы публикации могут озвучить ряд тезисов: осознанное восприятие воздействия языкового триггера возможно лишь небольшой националистической политизированной группой этноса, которая будет использовать этот триггер в своих интересах (чаще всего отнюдь не языковых, а политических); именно эта группа будет продвигать технологию в большие массы этноса, поскольку массовое восприятие уже не осознанно, в нем нет радикализованного деления «свой – чужой»; основной костяк таких групп в республиках составляют националистически настроенные представители этнической интеллигенции (историки, журналисты), среди которых очень низок процент молодежи и высок настрой эпохи «парада суверенитетов»; как правило, лидеров общественного мнения с широким охватом аудитории в этих группах крайне мало (не более 5-7 человек); основной поднимаемой ими языковой проблемой является уменьшение часов на изучение языка в образовательных учреждениях; проблема билингвизма понимается в республиках весьма однобоко (вне всей полноты содержания данного термина обывателем и даже опрошенными экспертами и ЛОМами); опрошенная в рамках фокус-групп молодежь все больше дистанцируется от языковой проблематики, т.к. сказываются те причины (в частности, глобализационная), которые были названы выше; в целом по обследуемому региону республик Поволжья и Приуралья «сыграть» на языковом триггере возможно только в случае крайнего обострения социально-экономической (не политической) ситуации.
Из анализа и данных исследования разница между языковым триггером для внешнеполитического и внутригосударственного применения достаточно наглядна. На материалах междисциплинарного исследования проблемы группой казанских ученых можно определить главное отличие: триггером для «расшатывания» ситуации внутри государства вокруг языка одного из домини- рующих этносов становится образовательный компонент, в частности объем часов на изучение языка в системе образования, а триггером для активизации межгосударственного конфликта становится законодательное ограничение использования языка и сопутствующая этому дискриминация по этническому признаку. То есть, в первом случае речь идет о форме существования языка определенного этноса в государственности с доминирующим государственным языком, а во втором случае – о возможности использования языка определенного этноса, родного языка для достаточно большой части населения, проживающей на территории данного государства. То есть, в первом случае речь идет об объеме языка, а во втором – о его наличии (существовании) в принципе.
Исследование этноязыкового триггера конфликта – весьма актуальная проблема в рамках современных международных отношений в плане сохранения и развития национальной безопасности. Угрозой внутренней безопасности может стать создание социально-политической нестабильности и конфликтности в государстве (как это было, например, в национальных республиках РФ в 90-е гг. XX в.), когда местные националисты пытались разыграть этническую карту и привести к распаду Российскую Федерацию по образцу СССР. Кризисная ситуация тогда сложилась на Северном Кавказе, особенно в Чеченской Республике, которая была превращена в непризнанное государство Ичкерия и фактически захвачена боевиками Д. Дудаева. Российской Федерации потребовалось более 10 лет, чтобы урегулировать данную кризисную ситуацию [Бугай 2006; Цекатунова 2009].
Остальные кейсы противоречий и конфликтов были трансформированы в национальных республиках России путем переговоров, экономическим и информационным давлением федерального центра, радикальным изменением стратегических и тактических аспектов государственной национальной политики. В целом эффективность данной политики влияет на общую стабильность ситуации
Угрозой национальной и региональной безопасности может стать прямое управление государством со стороны внешних политических акторов (страны, международные организации, транснациональные компании) с целью регулирования внутреннего языкового конфликта на стороне одного из его участников.
Подобное развитие ситуации характерно для современного кризиса во взаимоотношениях России и «коллективного Запада». Последний использует славянскую страну Восточной Европы в качестве площадки для проведения государственных переворотов в форме «цветных революций», формирования националистического режима, и далее – рычага давления на РФ. Страны НАТО не участвуют непосредственно в конфликте двух славянских государств, но при этом помогают Украине поставками оружия, наемников, в создании оружия массового поражения, разведке, ведут информационную войну, вводят масштабные экономические санкции. Гибридная война между Россией и «коллективным Западом», влияющая на все международное сообщество, порождена этноязыковым триггером конфликта одной из стран постсоветского пространства.
Статья подготовлена в рамках работы Школы молодого этнополитолога (проект Фонда президентских грантов № 21-2-00592).
Список литературы Этноязыковой триггер в формировании внутренних и внешних конфликтов государства
- Бугай Н.Ф. 2006. Чеченская республика: конфронтация, стабильность, мир. М.: Гриф и К. 476 с.
- Лебон Г. 2018. Психология народов и масс (пер. с фр. Э. Пименовой). М.: Эксмо. 352 с.
- Тард Г. 2016. Преступник и толпа (пер. с фр.). М.: Алгоритм. 432 с.
- Цекатунова Л.Б. 2009. Чеченский кризис. - Вестник Московского университета МВД России. № 11. С. 145-147.
- Gradirovski S., Esipova N. 2008.Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States: Attitudes more Favorable in Georgia, Moldova and Armenia. - Gallup. August 1. URL: https://news.gallup.com/poll/109228/russian-language-enjoying-boost-postsoviet-states.aspx (accessed 21.05.2022).