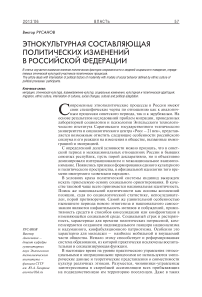Этнокультурная составляющая политических изменений в Российской Федерации
Автор: Русанов Виктор Алексеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается взаимное влияние политических факторов современности и моделей социального поведения, определяемых этнической культурой участников политических процессов.
Миграция, этническая культура, взаимовлияние культур, социальные изменения
Короткий адрес: https://sciup.org/170166981
IDR: 170166981
Текст научной статьи Этнокультурная составляющая политических изменений в Российской Федерации
С овременные этнополитические процессы в России имеют свои специфические черты по отношению как к аналогичным процессам советского периода, так и к зарубежным. На основе результатов исследований проблем миграции, проведенных лабораторией социологии и психологии Энгельсского технологического института Саратовского государственного технического университета и социологического центра «Росс – 21 век», представляется возможным отметить следующие особенности российского социума и его реакции на изменения в обществе, вызванные иммиграцией и эмиграцией.
С определенной долей условности можно признать, что в советский период в межнациональных отношениях России и бывших союзных республик, пусть порой декларативно, но и объективно доминировали интернационализм и межнациональное взаимопонимание. Появились признаки формирования единого культурного и политического пространства, в официальной идеологии того времени именуемого «советским народом».
В условиях краха политической системы индивид вынужден искать приемлемую основу социального ориентирования. В качестве таковой чаще всего принимается национальная идентичность. Поиск же национальной идентичности как основы жизненной позиции, судя по социологической статистике, непоследователен, порой противоречив. Самой же удивительной особенностью нынешнего периода нового этногенеза и национального самосознания являются инфантильность мотивов и побуждений, примитивность средств и способов консолидации или конфронтации в изменяющейся социальной среде. Социальный страх и растерянность, характерные для времени политических потрясений, компенсируются созданием индивидуального панциря национализма и надуманного, конфабуляционного патриотизма. Особенно это характерно для молодежи – наиболее мобильной и внушаемой части общества. Немало этому способствует и реформированная система образования, из которой практически исключены воспитательная и социализирующая функции.
В настоящее время на уровне практического управления этносоциальными и миграционными процессами не используются эмпирические данные и теоретические представления о совместимости культур различных этносов. Разумеется, чиновники-управленцы заинтересованы в скорейшей ассимиляции всех прибывающих на подведомственную им территорию поселенцев. Даже в таких
«мигрантских» по генезису государствах, как США, процесс ассимиляции в отдельных случаях весьма продолжителен и нелинеен. В этом государстве быстро достигают политической интеграции, однако культурной, приватно-бытовой ассимиляции достичь порой невозможно. С. Хантингтон отмечает, что близкие к англосаксам по языку и культуре немцы создавали анклавы и противостояли ассимиляции на протяжении нескольких поколений1. Еще сложнее, без сомнений, ситуация в России, ставшей после распада СССР землей обетованной для бывших сограждан по Союзу и их потомков. В управлении мигрантскими потоками не учитывается, например, тот факт, что казахи безупречно вписываются в социально-политический континуум России уже в первом поколении, более приближенные по вероисповеданию и культуре армяне традиционно предпочитают достаточно изолированные анклавы, а курды, где бы ни поселились, образуют совершенно автономный и изолированный «маленький Курдистан».
Негативные последствия силового реформирования российского общества проявляются не только в обострении межнациональной и межконфессиональной напряженности в ходе иммиграционных процессов. Постоянно растет поток эмигрантов из России. По результатам многочисленных исследований, при достаточном экономическом благополучии от 20% до 40% и более молодых людей готовы переселиться за рубеж на постоянное место жительства. Сейчас у молодежи предпочтительными по сравнению с Россией государствами проживания становятся не только США и страны Западной Европы, но и Литва, Латвия, Эстония, Беларусь. Нынешние студенты готовы стать американцами, чехами, белорусами в обмен на избавление от навязчивого социального страха, провоцируемого, прежде всего, властями среднего уровня – региональными и местными.
Социологическая статистика, предоставленная социологическим исследовательским центром «Росс – 21 век» (руководитель – В.П. Санатин), свидетельствует о том, что собственно межнациональные отношения не очень интересуют сограждан – жителей Саратовской обл.
Они занимают последнее место в рейтинге проблем, волнующих население.
Среди 16 социально значимых проблем региона лидируют: бедность, низкий уровень благосостояния (это отметили 70% респондентов), наркомания и алкоголизм (65%), коррупция, злоупотребления чиновников. Опасность межнациональных конфликтов отмечают 16% населения. Наиболее высок уровень этноконфликт-ной тревожности среди граждан 30–50 лет (21%). Среди людей старшей возрастной группы (более 60 лет) опасность межнациональных конфликтов ощущают 12% респондентов. Картина благостная. Эти цифры любят приводить в докладах региональные руководители, однако погромы и революции начинались именно как проявления экономической депривации, недовольства уровнем жизни масс населения. Подтверждением возможности подобного развития ситуации является мнение почти 80% населения, настаивающих на немедленной и радикальной чистке администраций регионального и местного уровней и всех силовых структур. Еще 52% считают самым насущным в социально-политической сфере установление приоритета русских по национальности при занятии государственных, административных должностей и в руководстве крупными компаниями, банками, фондами.
Вместе с тем около 20% населения Саратовской обл. считают принадлежность к определенной нации ложной ценностью. Для них человек – это, прежде всего, гражданин мира. Характерно, что такое мнение высказывают в подавляющем большинстве респонденты – русские по национальности. Русские же составляют, за редкими исключениями, контингент сторонников новых религиозных направлений и сект: мормонов, свидетелей Иеговы, белобратцев, богородичников и пр. Русские, по умолчанию считающиеся опорой российской государственности и объединяющей средой для всех других российских этносов, далеко не едины в своем стремлении к «православию, соборности и русскоцентричности России», столь милым сердцам русских неонационалистов.
В начале 90-х гг. прошлого века в условиях неразберихи в системе государственного и социального управления значительно интенсифицировались процессы социальной саморегуляции. В числе прочих организаций, занимающихся общественным регулированием, стали возникать национально-культурные объединения. Кроме задач поддержания культуры многочисленных диаспор в регионах России, они стремились к участию в делах государственного и муниципального управления в сфере их интересов. Так, например, в середине 1990-х одна из азербайджанских национально-культурных организаций в г. Энгельсе Саратовской обл. организовала нечто вроде мандатной комиссии для вновь прибывающих в регион азербайджанцев. В случае если возникали сомнения в добропорядочности нового иммигранта, подозрения в связях с криминалом, его принуждали покинуть пределы региона, мотивируя это тем, что члены диаспоры успешно вписались в российское общество, занимаются легальным бизнесом и не хотят, чтобы сомнительные люди бросали тень на их доброе имя. По протесту прокуратуры такая «аттестация» была официально запрещена, а неофициально продолжалась и была поддержана активистами других диаспор.
Властями региона подобные инициативы национально-культурных объединений негласно одобрялись. Чиновники органов государственного и муниципального управления и общественность стали рассматривать эти объединения как эффективный механизм социального управления в сложнейшей этноконфессиональной среде, а их лидеров – как доверенных лиц государства в руководстве диаспорами. В 2005 г. деятельность объединений одобряли 20% респондентов и столько же оценивали ее отрицательно, остальные затруднились с ответом. В 2010 г. позитивное отношение снизилось до 18%, а отрицательно к национальным организациям и их лидерам относились 55%.
Тем не менее сельское население области вполне лояльно относится к новым поселенцам – мигрантам самых различных национальностей, кроме, разве что, цыган. Такую доброжелательность к соседям с другой культурой, языком можно объяснить действием некоего русского архетипа – ведь русский народ формировался как сплав различных этносов на территории от Балтики до Тихого океана. В городах же отношение к мигрантам, в духе современности, описывается аффир-мацией «понаехали тут».
В связи с этим целесообразно упомянуть о русских экстремистских националистических организациях. Именно о русских, хотя в их состав нередко входят, например, татары, немцы, марийцы и представители других традиционных российских наций. Под наименованием экстремистов-националистов существуют два различных социальных явления.
Первая и самая распространенная группа «националистов» – это обычное дворово-уличное хулиганье. Национализм для них – не более чем туманное понятие, позволяющее оправдывать собственное хамство и стремление пакостить всегда и везде. Избить одинокого гастарбайтера, нарисовать свастику на стене синагоги – это практически полный ассортимент их подвигов.
Вторая группа возникает как реакция местного населения на противоправные или просто неприемлемые в данной культурной среде систематические действия, хулиганские выходки, допускаемые новыми поселенцами с целью запугать местное население. Поскольку наши правоохранительные органы охраняют и защищают, прежде всего, самих себя, население самоорганизуется с целью защиты от агрессивных пришельцев. Именно эти группы местного населения нередко интернациональны, объединяют представителей коренных этносов и, собственно, они и являются в определенном смысле националистами. Причина возникновения националистических защитных объединений вовсе не в этнофобии, неприязни к тому или иному этносу. Причина – в вопиющей, преступной бездеятельности властей всех уровней и отраслей. Ситуация в российском обществе принципиально отличается от положения в странах Европы и США, испытывающих еще более серьезное воздействие миграционного давления.
В России же в который раз прервана кул ьтурная традиция, мировоззренческая преемственность между поколениями. Еще в перестроечные времена были реабилитированы религия и церковь. Политическое руководство страны рассчитывало, что религия сможет компенсировать фрагментарность, практическое отсутствие социокультурной традиции в советском обществе. В российском обществе культивация религии и материальная помощь религиозным организациям не ослабевает в надежде на то, что они будут оказывать содействие властям в контроле над российскими гражданами, удерживать их от бунта против бюрократии. В настоящее время веруют в Бога и соблюдают обряды 11% населения Саратовской обл. Эти люди действительно стараются руководствоваться религиозными нормами – заповедями и выстраивают свою линию поведения в соответствии с моделями религиозной нравственности. Среди молодежи 18–30 лет верующих 7%, из которых 2/3 – женщины. Таким образом, среди самой проблемной с точки зрения социальной управляемости группы – юношей, молодых мужчин – верующих всего 2–3 человека на сотню. Это, конечно же, не значит, что все верующие на, так сказать, рутинно-бытовом уровне, не соблюдающие обрядов, не знающие догматов церкви, являются людьми безнравственными и социально опасными. Ресурс религиозно-социального регулирования в их отношении весьма ограничен.
2/3 населения, признавшие, что веруют в Бога, но обрядов не соблюдают, отличаются от воцерковленных тем, что религия для них – не основа системы личностных ценностей, не руководство на все случаи жизни, а своего рода оправдание собственных поступков. Для большей части российского сообщества и сообществ множества других государств религия выступает в качестве своеобразного катализатора социальных процессов. Современное российское общество – это соседство слегка верующих, слегка социализировавшихся людей. Религия может служить оправданием как жуткого террора, геноцида, так и некоего гипергуманизма со всеми переливами спектра в этом диапазоне. Религиозный фундаментализм, фанатизм, социальное равнодушие, духовная слепота и пресловутая политкорректность – в сущности, проявления одного и того же феномена – каталитического воздействия религии, религиозного мировоззрения на общество отчасти верующих людей. Таким образом, поддержка определенных религиозных организаций и движений является выражением потребности органов государственного и муниципального управления и гражданского общества в расширении спектра ресурсов социального управления и связана с необходимостью научной рефлексии процессов религиозного ренессанса в современном российском обществе, анализа критериев эффективности направления социальных изменений. Социальная политика ведущих, наиболее развитых в экономическом и политическом планах государств неожиданно привела мировое сообщество в состояние духовного, этического организационно-управленческого кризиса. Идеология мультикультурализма, социальная практика самодовлеющей толерантности и так называемой политкорректности создали для человечества не меньше проблем, чем в свое время национализм, политический тоталитаризм и религиозная нетерпимость.
Результатом общественно-политических трансформаций становится формирование качественно иной социальной структуры, представляющей собой неоднородное социальное пространство, состоящее из множества социальных групп, имеющих специфические интересы и потребности. В условиях децентрализации и единой идеологической базы, способной обосновать и определить логику функционирования и взаимодействия социальных субъектов, актуализируется потребность формирования в обществе системы саморегулирования и самоуправления. Эта легитимная и органичная по своему происхождению система нужна для предотвращения резких, пагубных для общества и трагичных для людей энтерогенных социальных потрясений. Ее элементы должны осознавать существование проблемной ситуации, находить, обсуждать и мобилизовать необходимые ресурсы внутренней и внешней социальных сред для решения как узкогрупповых, так и общезначимых задач.