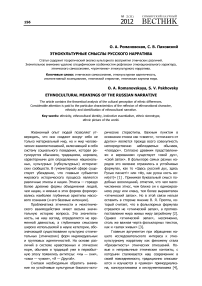Этнокультурные смыслы русского нарратива
Автор: Романовская Ольга Алексеевна, Паховский Сергей Вячеславович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит теоретический анализ культурного восприятия этнических различий. Значительное внимание уделено специфическим особенностям рефлексии этнонационального характера, этнического самосознания, «прочтению» этнокультурного нарратива.
Этническое самосознание, этнокультурная идентичность, инстинктивный эссенциализм, этнический стереотип, этническая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14113644
IDR: 14113644
Текст научной статьи Этнокультурные смыслы русского нарратива
Жизненный опыт людей позволяет утверждать, что они создают вокруг себя не только материальный мир, но и мир человеческих взаимоотношений, включающий в себя систему социального поведения, которая регулируется обычаями, традициями, нормами, характерными для определенных национальных, культурных (субкультурных) исторических сообществ. В гуманитарной сфере существует убеждение, что главным субъектом мирового исторического процесса являются различные этносы и нации. Этносы — гораздо более древние формы объединения людей, чем нации, и именно в этих формах формировались наиболее глубинные архетипы массового сознания (и его базовые интенции).
Проблематика этничности и межэтнического взаимодействия имеет весьма значительную историю вопроса. Эта значительность, на наш взгляд, определяется не временной давностью, а глубинными смыслами широко используемой в науке категории, обозначающей существование культурно отличительных (этнических) форм индивидуальных и групповых идентичностей. На основе различий в системе нравственных и этических норм, обычаев и традиций уже в первобытную эпоху появились антитезы: «мы — они», «свои — чужие», «Я — Другой».
Считаем необходимым обратить внимание на устойчивые культурные биолого-исто- of the world.
рические стереотипы. Важным пунктом в осознании этноса как «своего», «отличного от других» является прежде всего совокупность непосредственно наблюдаемых обычаев, «повадок». Согласно древним представлениям и верованиям существует «свой дух», «свой запах». В фольклоре самых разных народов это явление отразилось в устойчивых формулах, как то «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» или «Фу, как руска кость во-ня(ет)» [1] . Принимая буквальный смысл подобных восклицаний, отметим, что чем мало-численнее этнос, чем ближе он к единокровному роду или клану, тем более выразителен «этнический запах». Но в этой связи нельзя оставить в стороне мнение В. Я. Проппа, который считает, что в фольклорных формулах отразился не «этнический запах», а противопоставление мира живых миру загробному [2]. Однако «этнический запах», несомненно, столь же важная черта фольклорных текстов, как и «запах живых» [3].
Главным аргументом при обращении нашего исследовательского интереса к этнокультурному нарративу как феномену стала «бризантность» этнических отношений. Новые и непривычные этнические контакты, с которыми сталкивается наш современник в своей повседневности, традиционно описываются и изучаются в «рамках» примордиализ-ма, конструктивизма и инструментализма [4], однако, аффективная полнота высказываний человека о представителях другого этноса, противоречивость этих высказываний коррелирует с исторически и культурно обоснованными интерпретациями некоторого аспекта мира с позиции субъективной «привнесённо-сти» этнического смысла. Кроме этого, национальное базируется на этническом и во многом определяется им. Поэтому было бы неправомерно всю проблематику сводить только к изучению сознания и психологии наций, что наблюдается в ряде исследований. Достаточно часто говорят не об «этническом характере», а о «национальном характере», «национальных чувствах»; не об «этническом сознании», а о «национальном сознании», «национальном самосознании» и наоборот.
В российской этнологической науке существуют два основных подхода к определению понятия «этническое сознание». В широком смысле — «это представление людей о собственном этносе, о его свойствах, особое миропонимание и мироощущение». Такое толкование включает идентификацию личности с определенным этносом, представления об исторической родине, родной земле, исконной территории проживания, осознание этнических интересов и т. д. В узком смысле — осознание людьми своей этнической (национальной) принадлежности.
Следует отметить, что далеко не всякая совокупность людей, обладающая относительной общностью культуры и психики, является этносом. Непременным условием этнической определенности служит выделение и противопоставление какой-либо общности другим, наличие антитезы «мы» — «они». Поэтому этносом является только та общность людей, которая осознает себя как таковую, выделяя себя среди других аналогичных общностей. Это осознание членами этноса своего группового единства принято именовать этническим самосознанием. Этническое самосознание чаще определяется как «осознание принадлежности к определенной этнической общности, сознательное отражение этнического бытия» [5, с. 172].
Однако этническое самосознание не ограничивается только осознанием своей этнической принадлежности. Другим его видом является осознание единства и целостности общности («мы») через противопоставление другим общностям («они»). Таким образом, этническое сознание включает в себя представления не только о своей общности, но и о других. Последние представления являются избирательными, не всегда объективными и полными. Они преломляются через субъективные восприятия другого этноса, которые зачастую усиливают одни черты и ослабляют или «стирают» другие. Подобная избирательность присутствует также и при осознании своих этнических особенностей.
Научная полемика с представителями конструктивизма в этой связи косвенным образом поддерживается, увы, трагической серьёзностью, с которой земляне относятся к бинарной оппозиции «свой — чужой» по принципу этнической принадлежности. К примеру, тема собственной культурной идентичности в разных вариациях: государственной, национальной, духовной, административно-правовой и даже экономической вряд ли где, кроме России, звучит столь болезненно. Вопрос о культурной идентичности для русских редуцируется с бесконечным спором о том, европеец он или азиат: «Поймите меня правильно: всякий русский — милейший человек, покуда не напьется. Как азиат он очарователен. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не как к самым западным из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело» [6, с. 8].
Кстати, «раскосые и жадные очи», упомянутые А. Блоком, — не самоочевидный факт. Блистательный Иван Бунин в «Третьем Толстом» заметил: «…наконец весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом “с раскосыми и жадными очами”» [7, с. 297]. В «Окаянных днях» читаем от 25 февраля 1918 года: «Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все, как на подбор, преступные, иным словом, сахалинские… На эти лица ничего не надо ставить — и без всякого клейма всё видно» [7, с. 37].
В необъятной блогосфере общим местом стало убеждение этнофоров, что по государственным телерадиоканалам рассказывают анекдоты про чукчей, кавказцев, гастарбайтеров-рабов из Средней Азии. Практически каждый нерусский народ имеет презрительные клички, приписываемые им дурные «природные» характеристики [8]. С этими утверждениями трудно спорить. Инстинктивный эс- сенциализм, на наш взгляд, является эндемической чертой любого народа, особенно тогда, когда зона этнических контактов наполняется драматическим социальным содержанием, и «в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и “красные башкиры”...» [9, с. 181].
Несмотря на многочисленные противоречия и споры относительно содержания этнического и национального характера, в конкретных исследованиях обычно наблюдается довольно большое единодушие при описании черт этнического и национального характера у отдельных групп (храбрость, трудолюбие, сдержанность и пр.). Что же касается сущности и природы этнического и национального характера, то здесь возникает много дискуссионных проблем: о соотношении характера общности и характера ее конкретных представителей; о том, могут ли определенные черты характера быть исключительным достоянием одной этнонациональной группы и полностью отсутствовать у другой.
Полагаем, что этнический и/или национальный характер в качестве элемента психического склада может быть рассмотрен лишь как фиксация каких-то типических черт, которые проявляются наиболее отчетливо именно в тех случаях, когда выступают не отдельные люди, а группы. При выявлении таких типических, общих черт этнонационального характера нельзя их абсолютизировать: во-первых, потому что в реальных обществах в любой группе людей переплетаются этнические и социальные характеристики. Во-вторых, потому, что любая черта из выделенных в национальных характерах различных групп не может быть жестко привязана только к данной нации; каждая из них, строго говоря, является общечеловеческой: нельзя сказать, что какому-то народу присуще трудолюбие, а другому — общительность. Поэтому речь идет не столько о каких-то «наборах» черт, сколько о степени выраженности той или другой черты в этом наборе, о специфике ее проявления.
Недаром литература фиксирует, например, специфику английского юмора (хотя чувство юмора свойственно, естественно, не только англичанам), итальянской экспансивности (хотя в не меньшей степени экспансивными являются и испанцы) и т. д. Основной сферой проявления этнического и национального характера является разного рода деятельность, поэтому исследование характера возможно при помощи изучения продуктов деятельности: наряду с исследованием обычаев и традиций особую роль играет здесь анализ народного искусства и языка. Язык важен еще и потому, что передача черт характера общности осуществляется в процессе социализации, прежде всего при посредстве языка. Относительная устойчивость черт этнического и национального характера, несмотря на изменчивость социальной среды, объясняется тем, что возникает определенная инерция, обеспечиваемая путем межпоколенной передачи опыта.
Целый ряд явлений, усложняющих исследования специфики этнического и национального характера, возникает и на уровне массового сознания, что порождено процессом стереотипизации, свойственным всякому восприятию социальных объектов и особенно проявляющемся при восприятии представителей другой этнической группы. Возникновение этнических стереотипов связано с развитием этнического самосознания, осознания собственной принадлежности к определенной этнической группе. Образ других групп при этом часто упрощается, складывается под влиянием межэтнических отношений, формирующих особую установку на представителя другой группы.
При этом играет роль прошлый опыт общения с другой этнической группой. Если эти отношения в прошлом носили враждебный характер, такая же окраска переносится и на каждого вновь встреченного представителя этой группы, чем и задается негативная установка. Образ, построенный в соответствии с этой установкой, дает этнический стереотип. Чаще всего этнический стереотип возникает из-за ограниченности межэтнического общения: черты, присущие единичным представителям другой этнической группы, распространяются на всю группу [10, с. 242].
Складывающиеся таким образом стереотипы в дальнейшем влияют на возникновение этнических симпатий или антипатий. Даже при нейтральном эффекте всякий этнический стереотип означает приписывание этнических признаков представителям иных этнических групп, т. е. способствует распространению «приблизительных», неточных характеристик, что в определенных политических условиях открывает дорогу различным проявлениям национализма и шовинизма. Поэтому необходимо очень точно развести социально-психологический механизм возникновения этнических стереотипов и возможные политические спекуляции, построенные на этой основе.
Сложность явлений этнической и национальной психологии заставляет с особой тщательностью поставить вопрос о том, где коренятся причины национальных особенностей людей. Интеллектуальная рефлексия многочисленных причин этих различий открывает обширное научно-публицистическое поле: в теориях «народного духа» они были объяснены деистической изначальной заданностью, в различных биологических интерпретациях общественного процесса они часто рассматривались как генетически обусловленные, как принадлежащие расе; корни этих различий отыскивались также в антропологических, физических особенностях людей, в географических условиях их существования и т. д.
При минимальной интеллектуальной рефлексии формула «Ты — человек, но не только! Ты ещё и русский, еврей, армянин и т. п.» способна породить не только чувство этнической гордости, но и чувство этнического (расового) превосходства. К примеру: «Храни свою кровь чистой — / Она не только твоя, она течёт издалека, / И ей предстоит долгий путь. / В ней тяжесть тысяч предков, / И всё будущее заключается в ней! / Храни чистым одеяние / Твоего бессмертия» [11]. Поэзия крови, подобной могучей реке, особым образов вдохновляла Вальтера Гросса — руководителя Расово-политического управления НСДАП, одного из крупнейших расологов Третьего Рейха.
Очевидно, что этнокультурный нарратив выступает составляющей яркого оттенка и современной российской социальной картины, этот феномен представляет собой образование, порождённое культурными фантаз-мами и порождающее фантазмы об этничском Другом. Политическая острота проблемы в современном мире заставляет решать эти вопросы с особой корректностью. Принцип равенства наций, характерный для политической программы демократических государств, не означает признания «одинаковости» наций. Следовательно, выявление этнических и национальных особенностей, в том числе различий в их психическом складе и сознании, остается актуальной задачей. Эти особенности не могут быть абсолютизированы и должны рассматриваться как производные от определенных исторических условий, закрепленных на протяжении ряда поколений. Несмотря на относительную устойчивость этих черт, они способны исторически изменяться.
Резюмируя, отметим, что этнокультурное, национальное сознание и этническая психология выступают как историческое образование. Этнический стереотип лишь возводит в абсолют фактическую односторонность жизнедеятельности разных человеческих групп, обусловленную разницей условий существования и наличной ментальной картиной мира.
-
1. См.: Степанов, Ю. Константы: словарь русской культуры / Ю. Степанов. М., 2001.
-
2. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. Л., 1986.
-
3. См.: Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка / В. И. Абаев. М., 2001. Т. I; Гримм, Я. Немецкая мифология / Я. Гримм. М., 1990. Т. I.
-
4. Представляется уместной трактовка инструментализма в качестве одной из возможных форм и примордиализма, и конструктивизма. Этничность для инструментализма определяется заинтересованными социальными или политическими акторами в конкретном историческом или ситуативном контексте. См. подробнее: Здравомыслов, А. Г. К обоснованию релятивистской теории нации / А. Г. Здра-вомыслов // Релятивистская теория нации: новый подход к исследованию этнополитической динамики России. М. : Рос. независимый ин-т социальных и национальных проблем, 1998.
-
5. См.: Садохин, А. П. Этнология / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. М., 2000. С. 172.
-
6. Айзатулин, Т. Теория России. Геоподоснова и моделирование / Т. Айзатулин. М., 1999. С. 8.
-
7. Бунин, И. А. Окаянные дни / И. А. Бунин. М., 1991. С. 37.
-
8. См. к примеру: http://www.khakasia.com/forum /showthread.php?t=551.
-
9. Аверченко, А. Рассказы. Дюжина ножей в спину революции / А. Аверченко, Теффи. М., 1990. С. 181.
-
10. Стефаненко, Т. Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / Т. Г. Стефаненко // Общение и оптимизация совместной деятельности. М., 1987. С. 242.
-
11. Кунц, К. Совесть нацистов / К. Кунц. М., 2007. Ил. 3 «Кровь священна».
Список литературы Этнокультурные смыслы русского нарратива
- Степанов, Ю. Константы: словарь русской культуры/Ю. Степанов. М., 2001.
- Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки/В. Я. Пропп. Л., 1986.
- Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка/В. И. Абаев. М., 2001. Т. I; Гримм, Я. Немецкая мифология/Я. Гримм. М., 1990. Т. I.
- Здравомыслов, А. Г. К обоснованию релятивистской теории нации/А. Г. Здравомыслов//Релятивистская теория нации: новый подход к исследованию этнополитической динамики России. М.: Рос. независимый ин-т социальных и национальных проблем, 1998.
- Садохин, А. П. Этнология/А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. М., 2000. С. 172.
- Айзатулин, Т. Теория России. Геоподоснова и моделирование/Т. Айзатулин. М., 1999. С. 8.
- Бунин, И. А. Окаянные дни/И. А. Бунин. М., 1991. С. 37.
- http://www.khakasia.com/forum/showthread.php?t=551.
- Аверченко, А. Рассказы. Дюжина ножей в спину революции/А. Аверченко, Теффи. М., 1990. С. 181.
- Стефаненко, Т. Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения/Т. Г. Стефаненко//Общение и оптимизация совместной деятельности. М., 1987. С. 242.
- Кунц, К. Совесть нацистов/К. Кунц. М., 2007. Ил. 3 «Кровь священна».