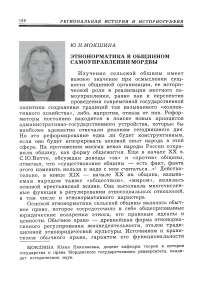Этнонорматика в общинном самоуправлении мордвы
Автор: Мокшина Юлия Николаевна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 3 (52), 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу стандартов поведения, систем премирования, санкций и наказаний в общинном самоуправлении мордовского народа.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222914
IDR: 147222914
Текст научной статьи Этнонорматика в общинном самоуправлении мордвы
Изучение сельской общины имеет важное значение при осмыслении сущности общинной организации, ее исторической роли в реализации местного самоуправления, равно как и перспектив проведения современной государственной политики сохранения традиций так называемого «коллективного хозяйства», либо, напротив, отказа от них. Реформаторы постоянно находятся в поиске новых принципов административно-государственного устройства, которые бы наиболее адекватно отвечали реалиям сегодняшнего дня. Но это реформирование едва ли будет конструктивным, если оно будет игнорировать вековой опыт народа в этой сфере. На протяжении многих веков народы России сохраняли общину, как форму общежития. Еще в начале XX в. С.Ю.Витте, обсуждая доводы «за» и «против» общины, отмечал, что «существование общины — есть факт, факта этого изменить нельзя и надо с ним считаться...»1 Действительно, в конце XIX — начале XX вв. община, называемая народом также «обществом», «миром», являлась основой крестьянской жизни. Она выполняла многочисленные функции в регулировании этносоциальных отношений, в том числе и этнонормативного характера.
Основой этнонорматики сельской общины являлось обычное право, которое сосредоточило в себе общепризнанные юридические воззрения этноса, его правовые идеалы и ценности. Обычное право — древнейшая форма этнонормативного регулирования жизнедеятельности, эталон традиционной этноюридической культуры. Источником и хранителем обычного права, гарантом его функциональности
МОКШИНА Юлия Николаевна, доцент кафедры теории и истории государства и права Мордовского государственного университета, кандидат исторических наук.
выступала община. Произведения устно-поэтического творчества мордовского народа отражают некоторые мифические представления о возникновении и развитии правовых обычаев. В то же время в них прослеживается и роль общества, значительно повлиявшего на этот процесс. Например, в мордовской песне «Кезэрень коесь кодамо» (рус. «Закон предков какой») отмечается, что «закон предков», «вера предков», «обычай предков» обитает на черном море, на острове, в голове рыбы-щуки. «...Щука хвостом махнула — иную веру утвердила, иной обычай утвердила. — Давайте созовем единый совет, давайте придем к единомыслию. Думайте, старейшие, гадайте, к единомыслию, почтенные, придите! Как жизнь нашу утвердить, как свой закон сотворить?...», — рассказывается в ней2 В другой мордовской песне говорится, что обычай сложился следующим образом: «...Земля появилась — обычай появился, без обычаев на земле не проживешь, без обычаев на земле жить не будешь. Вся жизнь людьми делается, все обычаи людьми устанавливаются...»3. Община оказывала значительное влияние на формирование народного правосознания.
Реализация этнонормативной функции по обеспечению правопорядка в крестьянском мире была связана с деятельностью мирского и волостного сходов, волостного суда, суда соседей. Особое место в системе народного правосудия занимали семейные структуры, в которых главным судьей считался глава семьи — большак.
Все наиболее важные жизненные вопросы крестьяне выносили на общие собрания представителей общины (стариков-домохозяев) — сходы. Общинники высоко оценивали значение этого органа управления в виду той роли, которую он играл в сложной системе этносоциальных отношений, его демократичности при вынесении решений. «Мордва живет большими деревнями в полном мире и согласии между собой. Без общего обсуждения, без сельской сходки у них не обходятся даже такие дела, как выбор места для отправления и моляна, или другого какого-нибудь мордовского обряда», — отмечают авторы живописного альбома о народах России4 В «Предании о царе Тюштяне» говорится: «В старину не было у мордвы верховных пра- вителей. У других народов — короли, цари, ханы. А мордва все свои дела решала на сходках...»5. О значимости этого института для мордвы также свидетельствует мордовская загадка о сходе, в которой он олицетворяется с «великой кукушкой»6.
В сходах участвовали главы семей или в отдельных случаях старшие после них. «Голодяевские старики — головы как белые качаны капусты. Каждый день сельский сход, через день сельский сход одной думушкой они думали, одним говором говорили...», — записал в селе Сухой Карбулак Саратовского уезда Саратовской губернии А.А.Шахматов7 Членом схода, обладавшим правом голоса, мог быть только мужчина, что подтверждается и соответствующей мордовской терминологией. Так, мордва-мокша сход (сходку) называет «алялу» (от «аля» — мужчина, «лув» — ряд, группа), выражение «пуромс алялус» — «собраться на сход» в буквальном переводе означает «собраться на мужское собрание», «встать, выйти в мужской ряд». Из старейших избирался председатель схода, которым обычно был наиболее авторитетный домохозяин. В круг его обязанностей входило: ознакомление всех собравшихся с сущностью дела, приглашение очевидцев, рассмотрение доказательств, организация голосования, оглашение принятого решения, наблюдение за порядком в целом. Женщины, за редким исключением, не могли представлять свое хозяйство на таком собрании. Тем не менее, об участии старейших женщин в сходах, свидетельствуют материалы произведений устно-поэтического творчества мордвы. «...Давайте сделаем сельский сход, созовем мы общий совет. Собрались сельские старушки, явились сельские старики. Судите, старики, судите, решайте, старухи, решайте, как теперь житье наладить? Как по-новому отношения устроить?», — повествует песня8
Сходы могли быть «полными» (состоящими из всех домохозяев) или «малыми» — из некоторых членов общины. В состав последнего входили только несколько стариков, приглашаемых для разбора тех или иных дел. Порой на сходе участвовали только те домохозяева, которые были избраны волостными судьями или членами волостного схода. На волостном сходе разрешались межобщинные дела. В этнически смешанных деревнях созывался общий сход, население входило в общину, на которой избирался общий староста.
О сходе, как правило, оповещали стуком в дверь или в окно, выкрикивая планируемое время его проведения. Сходы в мордовских общинах проводились либо на улице в особо установленном месте, либо в доме у наиболее авторитетного члена общины, «председательствовавшего» на собраниях. Старики для дебатов усаживались кругом, чтобы каждый мог друг друга видеть. Если сход проходил в доме, то старики рассаживались за большим столом, во главе которого был председатель. Пока шло обсуждение намеченных вопросов, хозяйка дома готовила угощение. Также на хозяйку возлагались обязанности по наведению порядка в доме до и после прихода стариков. Жительница мордовского поселка Центральный Торбеевского района, у которой отец был председателем сельского схода, рассказывала: «Все собрания в селе проходили в нашем доме. Мама всегда готовилась к ним: убиралась, готовила пищу для стариков. Но, когда начиналось обсуждение, мама обычно выходила из дома к соседям, так как находиться на собрании посторонним обычаем запрещалось»9
Решения обсуждались и принимались «голосом». При вынесении приговора произносили, если считали, что обвиняемый виноват: «Чумо» («виновен»), если же приходили к выводу о его невиновности: «Аволь чумо» («не виновен»). В случае несогласия с принимаемым решением присутствовавшие на сходе поднимали руки. Согласно нормам обычного права на руках у стариков обязательно были холщовые рукавицы, «махать голыми руками» считалось неприличным. О порядке проведения схода содержатся сведения в материалах мордовского фольклора: «...На сходку позвали, за стол в середку посадили, собрались судьи-решители...»10 «Собирается в селе сход, потолкуют мужчины и примут решение», — писал о проведении схода М.Гребнев11 Основным документом, который исходил от общины, был «приговор» — решение сходки. Приговоры выносились в основном устно, но наиболее важные записывались. Записи подлежали приговоры, в которых решения схода затрагивали деятельность органов государствен- ной власти и в дальнейшем могли послужить основой для ходатайства.
Рассматривая институт мирских сходов, некоторые исследователи обращали внимание и на существование явного неравноправия членов схода. Так, И.В.Селиванов, бывший в 1850-х гг. саранским уездным судьей, отмечал, что у мордвы на мирских сходках тот играл первостепенную роль в принятии решения, кто «при подушных выручал мир», то есть давал взаймы «за большие прокаты (проценты)»12 В одной песне сообщается: «Послал Бог Нишке птицу лебедя над землей летать, в небесах парить, жизнь людей посмотреть, испытать их правду и кривду... Бедный он со своим обычаем»13 «У богатых, скажу, нет правды, у имущих, скажу, нет честности. Бедные, скажу, самые справедливые, только у них сердце доброе», — говорится в другой мордовской песне14
Предмет разбиравшихся сходом дел не был четко очерчен. Рассмотрению подлежали наиболее важные вопросы, связанные с реализацией права или исполнением обязанности субъектами обычно-правовых отношений, а также обычно-правовые конфликты между членами общины, общиной и ее членами, общиной и государством. Важнейшей функцией схода была судебная, то есть возникающая по поводу разрешения юридических конфликтов. Большинство сделок мордва заключала устно, «в силу этого происходило множество нескончаемых и невозможных к разбирательству споров и ссор»15 На заседаниях схода разбирались обычноправовые нарушения: совершение опасных деяний, несоблюдение условий договоров, причинение вреда, разделы имущества и иные споры. При разборе нарушений проводились расследования, которые благодаря отличному знанию крестьянами местных условий, личных качеств участников дела, взаимоотношений односельчан, хорошей осведомленности были нередко очень эффективными. В процессе расследования осматривали место происшествия, делали обыск и опрашивали свидетелей. Нередко многие обычноправовые конфликты разрешались самосудом, санкционируемым общиной.
Суд схода мог быть представлен коллегиально в составе совета стариков или специальных доверенных лиц. По осени, отмечал К.Митропольский, мордва ежегодно собиралась где-либо при большом озере для судопроизводства над личностями, подозреваемыми в каких-либо преступлениях, совершенных в течение года. «Судьи, чтобы узнать истину, чинили «суд Божий»: приказывали перевязать серединою бичевы шею обвиняемого и с быстротою перетаскивать его через озеро из конца в конец непременно три раза; оставшегося в живых признавали невинным». Преступников наказывали «сообразно их вине»: убийством, отрубанием членов, снятием кожи и пр.16
Наказания за нарушения в зависимости от степени виновности были разнообразными: денежный штраф, битье кнутом, словесный укор и др. Одной из наиболее применявшихся форм наказания было публичное посрамление, когда провинившегося вели по деревне. Например, пойманному с поличным вору связывали руки, на шею навешивали украденную им вещь и в сопровождении односельчан водили по селу, всячески осмеивая его17 Самым суровым видом наказания считалось причинение человеку, виновному в преступлениях, смерти. К числу преступлений относились убийство, воровство, прелюбодеяние и др. В балладе о Дмитрии, убившим свою мать, сообщается о способе наказания: «к хвосту коня его привязали, через семь полей пустили»18 В материалах фольклора отмечаются некоторые другие самобытные меры наказания. Так, в легенде о мордовском царе Тюштяне рассказывается: «Мудро правил Тюштянь своим народом, не обижал зря никого. Только вот за воровство казнил сурово — на сухой осине воришек вешал. Бесполезное, говорит, дерево — бесполезный и человек»19
Частные споры не доводились до сведения схода и разрешались группой близ живущих крестьян, то есть судом соседей. Деятельность суда соседей (шабров) обусловливалась традицией солидарности; соучастие в делах своего соседа в целях оказания помощи считалось долгом каждого общинника.
Община регулировала на основе норм обычного права все стороны внутренней жизни мира (брачно-семейные, наследственные, гражданско-правовые, договорные, трудовые и др. общественные отношения). Причем все отноше- ния должны были обязательно санкционироваться именем богов и предков. Особую роль община играла в сфере земельных правоотношений, где наиболее важным моментом являлся передел земли между общинниками-домохозяевами. Среди мордвы были распространены частные переделы земли, осуществляемые между отдельными семьями в зависимости от количества в них мужских душ. Земельные межевания нередко принимали тяжелые формы внутренней борьбы в общине. Иногда споры длились годами, вызывая тяжбу на сходе, жалобы в органы государственной власти. Показателен сюжет, описанный в эрзя-мордовской легенде о поле между селами Большие Ремезен-ки и Большое Маресево, имевшее название «Чала Пря», что на русском языке означает «место раздора». Согласно легенде на этом месте между мужиками этих сел вспыхнул спор, окончившийся большой дракой. От обеих общин сельские сходы сформировали межевую комиссию, которой поручалось проследить за правильностью и честностью передела. Из Большого Маресева были избраны старики Мамай и Алют, поскольку их «на коне нельзя было объехать, ни в споре переспорить». Наблюдая за переделом, они заподозрили главного межевого, как обманщика, действовавшего в интересах ремезенских. Отстаивая свои позиции на месте Чала Пря, Мамай стал препятствовать межеванию. Спор закончился дракой, а Мамая, как зачинщика, посадили в тюрьму. В дальнейшем Мамай, отличавшийся особой хитростью, нашел способ себя вызволить из заключения20
Разрешение семейных вопросов осуществлялось в рамках семьи, где главным судьей считался большак. Поскольку экономическое благосостояние общины во многом зависело от благополучия отдельного двора, то порой община принимала решение вступить в спор в случае возможности причинения миру вреда. Если домохозяин злоупотреблял своей властью, то сход мог вынести решение передать властные полномочия главы семьи сыну. Община проявляла заботу о сиротах, нередко добиваясь выделения им полного пая, это было обусловлено тем, что из них могли выйти хорошие работники, полезные обществу. Мир также мог заступиться за солдатку, которую попытались выгнать из семьи21.
Одновременно члены крестьянских общин жили в двух мирах: мире общины со своей собственной культурой, включая традиционные нормы поведения, и в мире государства с его законами. В правоотношениях с государством община выполняла функцию реализации возложенных на нее официальным законодательством обязанностей. Так, Георги, а вслед за ним и Милькович отмечали, что мордва «...несет равную с соседями гражданскую тягость...»22
Община распределяла между ее членами ежегодные платежи и трудовые повинности. Раскладка налогов осуществлялась по числу душ в семье. В случае несвоевременной уплаты на доходы, получаемые домохозяином, накладывался арест: назначался опекун, без разрешения которого неуплативший налог лишался права отчуждения чего-либо из своего хозяйства. Иногда вместо «неисправного» хозяина старшим в доме назначался другой член семьи. Сборщик податей или староста мог производить опись движимого семейного имущества, причем в реестр включались и вещи, предполагавшиеся к продаже для покрытия недоимок. На одном из сходов староста оповещал о предстоящей продаже описанного имущества, но сам он, как и волостной старшина, писарь, члены их семей права на приобретение этого товара не имел. Без участия общины было невозможно и исполнение воинской повинности. «Вот грозятся отдать в рекруты, вызвали мокшанина на сходку, жребий кинули — ему достался», — сказано в мокша-мордовской песне23
Община, как правило, посредством мирского схода, осуществляла и функцию представительства для защиты ее интересов перед государством, а прежде (во времена крепостничества) — перед помещиком. Так, на сходе выбирался представитель от общины, который мог бы держать слово: «Большой помещик заявился, чтобы отнять поле, мы кого пошлем к нему, большой ответ перед ним держать»24 Сельский сход большинством голосов выбирал старосту, его помощников, мирские комиссии и другие должностные лица. Как правило, избирались самые авторитетные домохозяева, «лучшие люди», поскольку мир нес полную ответственность за их действия.
Юридические отношения крестьян невозможно понять без рассмотрения особенностей их быта25 во взаимосвязи с содержанием норм официального законодательства. После проведения реформ 60-х гг. XIX в. отечественные этнографы и юристы обнаружили, что народная юстиция, существенно расходившаяся с законом, решала 80 % всех дел у 80 % населения империи. Во второй половине XIX в. обычное право использовалось всеми судами в торговых делах при пробелах в законодательстве, в делах о наследовании, опеке и попечительстве у крестьян, по всем спорам среди крестьян, разрешавшимся волостными судами по гражданским делам, а до 1889 г. и по уголовным делам, при рассмотрении всех гражданских дел у мирового судьи или земского начальника (в 1889—1912 гг.) при лакунах в законе. До 1887 г. мировой судья имел право решать по своему усмотрению судебные дела по просьбе обеих сторон26
В дореволюционных изданиях нередко повествуется о взятых из жизни фактах произвола волостных старшин, писарей, выборных судей. Так, в материалах Комиссии о создании проекта Уложения в конце XVIII в. отмечалось: «Существующие суды крестьянам мало приносят пользы, приходится ездить на большие расстояния, расходоваться на судей, на бумагу и т.п. Если же судья приезжает в деревню сам, то требует себе подводу, съестные припасы и др. Крестьянин спорить не смеет, если станет что-либо говорить против таких требований, то судьи начинают бить его за то, что говорит неучтиво, многие из инородцев крещеных и некрещеных, не зная русского языка, бывают вынуждены нанимать толмачей...»27 Такая ситуация мало изменилась и позже. Свидетельством чему служат и публикации многих известных писателей XIX — начала XX вв. К примеру, А.И.Герцен, пребывая еще в 1830-х гг. в ссылке в Вятской губернии, с негодованием отзывался о произволе царских чиновников и полиции среди народов Волго-Камья: «Настоящий клад для земской полиции — это вотяки, мордва, чуваши. Народ жалкий, робкий... Исправники дают двойной окуп губернаторам за назначение их в уезды, населенные финнами. Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками»28
Таким образом, в конце XIX — начале XX вв. этно-нормативное регулирование в крестьянском мире осуществлялось в соответствии с нормами обычного права. Пра- вопорядок поддерживался системой общинных институтов, наиболее существенными из которых были сельские и волостные сходы. Единственным крестьянским органом народного правосудия, признаваемым государством, был волостной суд, к которому, однако, обращение народа было довольно редким. Хотя существовавшая в государстве система правосудия значительно видоизменялась, община продолжала сохранять свои позиции, оставаясь для народа не только основным регулятором хозяйственной жизни, но и ведущим ориентиром культурной и правовой мысли.
Список литературы Этнонорматика в общинном самоуправлении мордвы
- Из выступления председателя «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности» С.Ю.Витте на заседании 22 января 1905 г.//Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Период империализма. Учеб. пособие. М., 1977. С. 12.
- Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки. Антология/Сост. М.И.Чувашев, И.А.Касьянова, А.Д.Шуляев, А.Ю.Малыхин, Г.И.Волкова. Самара, 2001. С. 254.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 9. Саранск, 1982. С. 11-12.
- Народы России. Живописный альбом. СПб., 1880. С. 124. D Легенды и предания мордвы. Саранск, 1982.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Саранск, 1968. С. 212.