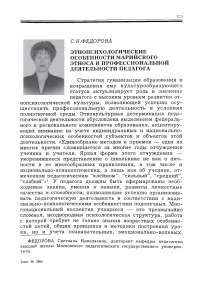Этнопсихологические особенности марийского этноса в профессиональной деятельности педагога
Автор: Федорова Светлана Николаевна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональные проблемы науки и образования
Статья в выпуске: 2 (55), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные этнопсихологические особенности марийской этнологии, а также их влияние на развитие личности и важность их учета в профессиональной деятельности учителя.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222933
IDR: 147222933
Текст научной статьи Этнопсихологические особенности марийского этноса в профессиональной деятельности педагога
Стратегия гуманизации образования и возращения ему культурообразующего статуса актуализирует роль и значение педагога с высоким уровнем развития эт нопсихологической культуры, позволяющей успешно осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничной среды. Этнокультурная детерминация педагогической деятельности обусловлена выделением федерального и регионального компонентов образования, акцентирующих внимание на учете индивидуальных и национально-психологических особенностей субъектов и объектов этой деятельности. «Единообразие методов и приемов — одна из многих причин сложившегося за многие годы отчуждения ученика и учителя. Яркая форма этого отчуждения — укоренившееся представление о школьнике не как о личности в ее многообразных проявлениях, в том числе и национально-психологических, а лишь как об ученике, отмеченном педагогическим “клеймом”: “сильный”, “средний”, “слабый”»1 У педагога должны быть сформированы необходимые знания, умения и навыки, развиты личностные качества и способности, позволяющие успешно организовывать педагогическую деятельность в соответствии с национально-психологическими особенностями подопечных. Многонациональный коллектив учащихся — это чрезвычайно сложная, неоднородная психологическая структура, работа с которой требует не только знания возрастных особенностей детей, общих принципов и методики построения уро-ка, но и учета познавательных, эмоционально-волевых,
ФЕДОРОВА Светлана Николаевна, докторант кафедры педагогики высшей школы Московского педагогического государственного университета.
Заказ № 2806
коммуникативных особенностей национальной психологии представителей разных этнических групп.
В качестве показателей готовности учителя к работе с многонациональным составом учащихся исследователями отмечаются знание национальной культуры своего и других народов; научно обоснованная оценка объективной ценности прогрессивных идей и опыта народной педагогики, выработанная на основе этих знаний; стремление и умение использовать прогрессивные идеи и опыт педагогики различных народов в работе с детьми в многонациональном детском коллективе; глубокий и устойчивый интерес к изучению этнокультурных ценностей, характеризующийся активностью в изучении этнографического материала; общение с детьми в духе дружеского отношения к представителям разных национальностей2.
Учитель должен преодолевать трудности в общении с представителями любой национальности, с каждым из них находить оптимальные способы взаимодействия, соответствующие индивидуально-этническим особенностям. Заметим, что максимально выражают национальную психологию народа его традиции, поэтому для педагога важен взгляд на традицию как сложную систему взаимосвязанных между собой элементов (ценностей, норм, идеалов, убеждений), являющихся регулятором поведения человека. Это вовсе не «путы на ногах формирующейся личности», а своеобразная форма существования, самосохранения и развития индивида как части целого (этноса/нации), способ установления гармоничных отношений с природой и обществом, не лишенный культурной специфики. Элементы традиции анализируются с точки зрения проявляющегося в них стержневого компонента структуры.
Ориентированность культуры на коллектив или индивида можно рассматривать как один из факторов, обусловливающих познавательное развитие. Имеется связь между отсутствием власти человека над средой и коллективистской ориентацией: так как индивид традиционного общества не располагает возможностями влиять на условия среды, он меньше отделяет себя от физического мира и других индивидов. Такой подход позволяет отнести марийский этнос к культурам с коллективистской ориентацией, т.к. здесь человек считается частью природы (имеет расти- тельного и животного двойника) и может полноценно существовать только в гармонии с ней. Более того, среди народа не культивируется субъективизм личности, не одобряются «выскочки», поощряется принцип «не выделяться!», «живи как все». В марийской семье детям внушается мысль о значимости для человека оценки окружающих, требуется сдержанность в выражении собственной точки зрения, уважительное отношение к мнению старших.
Обычаи и традиции повседневного быта также свидетельствуют о коллективистской направленности жизни: нормой считается установление уважительных отношений со всеми односельчанами, высмеиваются те, кто не умеет мирно ужиться со своими соседями. Основными ценностями марийцев, как и всех представителей коллективистских культур, являются следование традициям, послушание, чувство долга, взаимная ответственность между людьми и т.д. Любое событие (радостное или трагическое) проходит при активном участии практически всех членов общины. Взаимопомощь и взаимовыручка («вима», «олха» и т.д.), традиции гостеприимства («когда заходят к тебе люди — жить легче») — характерные особенности жизнедеятельности мари, сохранившиеся до наших дней. Можно выделить черты вертикального коллективизма в быту марийцев, например, анализируя физическое и социальное пространство в терминах «почетное — менее почетное». Во время праздников, семейных обрядовых вечеров на почетное «войлочное» место (лавка, застеленная войлоком) усаживали самого уважаемого гостя, а другие садились на голые лавки. После христианизации мари почетного гостя стали усаживать под «красный угол», где размещались иконы.
В качестве доказательства коллективистской направленности психологии народа можно отметить не свойственные основной массе марийцев ценности индивидуализма в виде самодостаточности, свободы в поступках, стремлении к оригинальности, необычности и т.д. Следует подчеркнуть недостаток рассмотрения индивидуализма/коллективизма как дихотомии противоположных базовых ценностей, так как существуют ценности, в одинаковой мере служащие интересам и индивида, и группы, а потому регулирующие поведение людей в любой культуре. Кроме того, в любом современном обществе имеются важные универсальные ценности, которые, оставаясь коллективными, не являются групповыми (социальная справедливость, защита окружающей среды, мира). И, наконец, на основе эмпирических исследований установлено, что некоторые ценности, считавшиеся характерными для одного из типов культур, являются значимыми для обоих. Так, в США давно описана связь индивидуализма с мотивацией достижений, но и японцы или китайцы, оставаясь коллективистами, стремятся к достижениям3 В связи с этим в настоящее время коллективизм и индивидуализм уже не рассматриваются в качестве взаимоисключающих полюсов некоего теоретического континуума. Два культурных синдрома могут существовать одновременно и в зависимости от ситуации более или менее ярко проявляться в каждой культуре, в том числе и в марийской. Более того, у одних и тех же людей при взаимодействии с разными группами коммуникации обнаруживаются обе ориентации. Качества коллективистов ярко проявлялись среди марийцев в прошлом. Сейчас, к сожалению, нередки характерные и для представителей других народов проявления индивидуализма, стремление к обособлению от окружающих, ориентированность на собственные нормы жизнедеятельности. Возможно, это связано с общемировой тенденцией прогресса индивидуализма, неизбежного в индустриальном обществе и ведущего к полному разрушению коллективистской ориентации.
Необходимо отметить и такую особенность в коммуникации представителей марийской культуры, как существенная разница в стиле общения со «своими» и «чужими». Наши многолетние наблюдения за студентами, курсантами и воспитателями дошкольных и школьных образовательных учреждений марийской национальности подтверждают, что поведение представителей этой коллективистской культуры во многом зависит от того, кто те «другие», с которыми они взаимодействуют. При общении с представителями других этнических групп большая часть студентов марийской национальности не отличается смелостью в социальных контактах, они скованны, неуверенны, мало инициативны, предпочитают «оставаться в стороне», отмолчаться. Если же круг общения ограничен рамками своей этнической общности, они веселы, энергичны, проявляют изобретательность, неординарность мышления, твердую уверенность в себе, раскованность в поступках и т.д. Наши наблюдения подтверждаются и самими студентами, отмечающими, что им намного легче и комфортнее общаться в «своей» мононациональной среде. Это должны учитывать педагоги, так как у людей, принадлежащих к разным культурам, могут не совпадать представления о необходимости проявления своих способностей. В одной культуре (чаще всего индивидуалистически направленной) демонстрация знаний и умений поощряется, в другой (коллективистски ориентированной) такое поведение может рассматриваться как бесцеремонное, неприличное и больше ценится скромность. Педагогу необходимо хорошо разбираться в системе представлений о правильном и неправильном поведении, характерном для представителей конкретного этноса, в сформированных культурой механизмах, гарантирующих соблюдение нравственных норм.
Рассматривая регуляторы человеческого поведения в качестве стержневого измерения культур, имеет смысл противопоставить западные культуры вины восточным культурам стыда. Элементы и той, и другой обнаруживаются в психологии марийского этноса, где человек в своих действиях всегда ориентируется на внешнюю оценку (что скажут или подумают окружающие). Всякое действие, далеко не похвальное, но не вредящее другим и отражающееся только на самом действующем, «унижает человека, делает его смешным и жалким, роняя его в глазах других (пьянство, леность и пр.), ибо совершивший проступок уже сам в себе несет наказание, испытывая стыд («намыс»), а сверх того и окружающие могут над ним безнаказанно насмехаться («мыскылаш»)»4 У человека с детства формируется привычка соотносить свои действия с моральными оценками окружающих («живи так, чтобы перед соседями не было стыдно»).
Как и в любой другой культуре, регулируемой, прежде всего стыдом, наказание за антиморальные проступки нередко сводилось к публичному осуждению. Так, во время празднования Шорыкйола (в прошлом — Дня нравственного суда мари) перед всеми стыдили людей, занимавшихся воровством, прелюбодеянием, плохо работающих и т.п. В марийской деревне стыдом наказывали девушек за потерю чести до замужества. Для этого использовались разные приемы: измазывание ворот девушки дегтем, отказ от общения, презрение к матери, не сумевшей правильно воспитать дочь и т.д. Еще более строгому наказанию подвергались замужние или женатые виновники любовных утех: «Как скоро попадется вдова с парнем или женатым, которых никак не принуждает соединиться браком, то в виду того, чтобы подобные вещи не повторялись, поступают издревле так: выводят виновных на улицу, собирается сельский сход, во главе которого стоит сельский староста; виновных привязывают друг к другу шнурками от штанов (штаны носятся мужчинами и женщинами на шнурках), обвешивают обоих старыми метлами, вениками, лаптями и т.п. и водят их по улице в таком виде, при том один из сопутствующих десятских бьет в барабан. Такому наказанию подвергаются виновные не только из своей деревни, но и посторонние»5
Эти примеры свидетельствуют о зыбкости границ между понятиями стыда и вины. Недаром большинство современных исследователей согласны с тем, что нет дискретных культур вины и стыда, а все известные психологические механизмы социального контроля существуют в каждой из культур. Кроме того, и в основе стыда, и в основе вины лежит страх. Именно он регулирует поведение представителя любой культуры в его взаимоотношениях с чужими, посторонними, потенциально враждебными «они». Это чувство страха, генетически передающееся из поколения в поколение, также должно быть в центре внимания педагога, в арсенале методов работы которого следует иметь приемы, стимулирующие «успешность» ребенка, его уверенность в себе. Важно умело применять, в частности, такой прием, как похвала, потому что в работе с представителями финно-угорских народов, к которым принадлежит и марийский этнос, он оказывается наиболее эффективным6 Сравнивая этнопсихологические особенности разных народов, З.А.Ганькова отмечает, что у представителей финно-угорского этноса выше степень напряженности взаимодействия организма с предметной сферой, а значит, выносливость, работоспособность в психомоторной сфере, но переход от одних программ поведения к другим легче у лиц русской национальности. Показатели пластичности и темпа ниже у испытуемых финно-угорского этноса. Самые рас- пространенные типы среди финно-угорского этноса — рациональные мыслительно-сенсорный и эмоционально-сенсорный интроверты7
Относительно конформности представителей марийского этноса следует отметить несовпадение оценок. Конформность — психологическая характеристика позиции индивида относительно позиции группы, мера подчинения индивида групповому давлению. Архивные материалы довольно противоречивы в оценке конформности марийцев. Так, характеристика черемис (прежнее название народа), представленная Олеарием, более отражает, на наш взгляд, антитезу конформности — это коварный, хищнический и колдовству преданный народ. Голландский ученый-путешественник Я.Я.Стрейс, изучавший в XVII в. «инородцев» России, также подчеркивал своенравность «черемисских татар» (не выделяя их как отдельный народ): «Это весьма дикий народ, как по своей одежде, так и по своим нравам... самые злые и свирепые язычники, каких я когда-либо видел»8 Сравним эти оценочные высказывания с этнопсихологической характеристикой народа мари, представленной современными авторами. Так, В.А.Сокольникова отмечает: «Марийцы — трудолюбивы, гостеприимны, скромны, стремятся к знаниям, терпеливы. В них развито чувство достоинства... В этносе присутствует инстинкт самосохранения, не позволяющий перейти ту грань, за которой следует самоуничтожение, что, в свою очередь, приводит к стремлению избежать какие-либо формы и проявления национальных и межнациональных конфликтов, распрей, войн, междоусобиц»9 Зашкаливающую конформность мари отмечает К.Н.Сануков: «Практически вся история марийского народа — история покоренных, задавленных, униженных, гонимых»10 Часто конформность марийцев ассоциируется с покорностью, уступчивостью и относится к группе отрицательных явлений. Вместе с тем культура мари относится к тем культурам, где высоко ценится гармония межличностных отношений, податливость мнению большинства интерпретируется как тактичность и социальная сензитивность, как в высшей степени положительное и желательное явление, социальная ценность и норма. Э.А.Сараку-евым, В.Г.Крысько отмечается дисциплинированность и исполнительность марийцев, старательное отношение к своим профессиональным обязанностям. Более того, подчеркивается, что в многонациональном коллективе марийцы почти ничем не отличаются от русских, только чуть более замкнуты11
Результаты исследования, проведенного С.Н.Мотовиловой и О.В.Филипповой в Оршанском педагогическом колледже Республики Марий Эл со студентами русской (78 опрошенных) и марийской национальностей (283 опрошенных), свидетельствуют, что у большинства студентов не выражена такая личностная особенность, как подчиненность-доминантность. Средний уровень развития этой личностной особенности имеют 87 % студентов мари, 78 % — русских студентов. Доминантность проявилась у 16 % русских студентов и у 10 % студентов марийской национальности. Подчиненность проявилась у 6 % русских и у 3 % студентов мари. Таким образом, имеются определенные отличия в уровне проявления доминантности студентов разных национальностей: более доминирующими оказались представители русской национальности. Личностная подчиняемость на низком уровне развития проявилась у 71 % русских и у 65 % студентов мари. На среднем уровне — у 31% студентов мари и у 24 % русских студентов. На высоком уровне подчиняемость проявилась у 5 % русских студентов и у 4 % студентов мари. Таким образом, уровень развития подчиняемости отличается у студентов разной национальности. На низком уровне подчиняемость проявилась у 71 % русских студентов и 65 % студентов мари. Мы можем предположить, что студенты мари более подчиняемы, т.е. результаты исследования говорят о том, что студенты русской национальности оказались более доминантными, а марийской — более подчиняемыми, конформными. Следует подчеркнуть, что степень интенсивности конформных реакций во многом определяется воспитательными акцентами культуры: либо на самоутверждение, либо на уступчивость.
Современные тенденции развития общества настоятельно требуют изменения ориентации обучения на самоутверждение, стремление к достижениям, поэтому в «марийской культуре особо важно уделить внимание формированию устойчивой “системы — я”, положительной самооценки, внутренней свободы. Последняя, как правило, характеризу- ется наличием устойчивого внутреннего стержня, собственного мнения, интеллектуальной компетентности, уровнем образованности человека»12 Часто дети марийцев пытаются скрыть свою этническую принадлежность и предпочитают относиться к доминирующей группе, хотя их внешние данные и языковые особенности свидетельствуют о принадлежности к марийской этнической общности. Индивидом могут использоваться разнообразные категории для ухода от переживаний по поводу собственной этнической группы. Задача педагога, работающего с такими детьми, заключается в повышении этнического самосознания, привлекательности для человека собственной этнической группы. Необходимо стимулирование проявлений самоуважения личности, формирование собственных позиций, мнения, так как марийская пословица гласит, что «кто живет своим умом, тот себя не потеряет», или «только живя своим умом, можно остаться самим собой».
Педагогу следует помнить, что стремление к сохранению или восстановлению позитивной этнической идентичности представляется наиболее естественным для человека, так как дает ему ощущение психологической безопасности и стабильности. «Для этого используется стратегия, названная А.Тешфелом и Дж.Тернером стратегией социального творчества. Она может принимать различные формы, связанные с пересмотром критериев сравнения. Это может быть поиск новых оснований для сравнения. Попытку таким способом сохранить позитивную этническую идентичность можно обнаружить в содержании автостереотипов групп, потерпевших поражение в межгрупповом соревновании»13 Так, в исследовании Т.Г.Стефаненко, проведенном в конце 1980-х гг., московские студенты воспринимали представителей своей этнической общности (русских) как гостеприимных, дружелюбных, гуманных, добрых и отзывчивых. А американцы в их представлении оказались деловитыми, предприимчивыми, трудолюбивыми и добросовестными, т.е. обладающими качествами, которые способствуют достижению успеха в делах, но в России традиционно занимают низкие места в иерархии личностных черт как ценностей14 В нашем исследовании студенты марийской национальности оценивали представителей своего этноса как скромных, трудолюбивых, старательных, добросовестных в отличие от русских — уверенных в себе, общительных, независимых, настойчивых.
Стратегия социального творчества проявляется и в восстановлении субъективного благополучия с помощью выбора для сравнения еще менее успешных или еще более слабых групп. Так, восточные немцы после воссоединения Германии оказались на более низкой ступени социальной иерархии, чем западные, но свое недовольство и акты агрессии они направляли не на государство и доминантную группу западных немцев, а на еще более уязвимые группы вьетнамцев, турок и других иностранных рабочих. В Республике Марий Эл к уязвимым группам относятся, как это ни парадоксально, представители коренной национальности. К такому неутешительному выводу приводят нас результаты социологических исследований и многочисленные высказывания переселенцев, беженцев и просто приезжих из других территорий (Казахстан, Азербайджан, Ставропольский край, Дальний Восток и т.д.), в том числе и студентов, о недостаточно уважительном отношении к представителям коренной национальности. Может быть, поэтому представители разных субэтнических групп марийского населения (луговые, горные), долгое время находящегося на более низкой ступени социальной иерархии, иногда свое недовольство направляют друг против друга, стараясь не затрагивать доминантной группы. Кроме того, «при неблагоприятном межгрупповом сравнении члены групп дискриминируемого меньшинства могут выбрать и другую стратегию — принять правильную самоидентификацию вместе с негативной оценкой группы. В этом случае формируется негативная этническая идентичность, которая может сопровождаться ощущением неполноценности, ущемленности и даже стыда за представителей своего этноса. Этот тип этнической идентичности неблагоприятен для межгрупповых отношений, так как сопровождается обострением восприятия дискриминации и увеличением субъективной культурной дистанции с группой большинства. Он неблагоприятен и для личностного роста индивида»15 Негативная этническая идентичность некоторых представителей марийского народа отразилась на формировании таких непродуктивных характеристик личности, как низкая самооценка, неуверенность в себе, чувство ущербности и неполноценности. Этническая идентичность не статичное, а динамичное образование. Влияние обстоятельств может подтолкнуть человека на переосмысление роли этнической принадлежности в его жизни и привести к трансформациям этнической идентичности. Педагог должен работать над формированием этнической идентичности по типу «нормы» (позитивная этническая идентичность), предполагающей соотношение в структуре идентичности позитивного образа собственной этнической группы с позитивным ценностным отношением к другим этническим группам. Кроме того, следует учитывать и такую тенденцию, как рост числа детей, являющихся одновременно носителями двух различных культур. В связи с этим можно согласиться со Т.Г.Сте-фаненко утверждающей, что в полиэтническом обществе наиболее благоприятна для человека биэтническая идентичность, так как позволяет органично сочетать разные ракурсы восприятия мира, овладевать богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной16 На наш взгляд, обозначенная позиция автора перекликается с подходом В.М.Розина по подготовке образованного «кентавра», т.е. образованного россиянина, национала (мари, татарина, еврея, русского и т.д.), который должен соответствовать общецивилизационным (экологическая и аксиологическая подготовка, умение справляться с проблемами и кризисами, жить не только настоящим, но и прошлым и будущим и т.д.); коммуникативным (знание иностранных языков, культурологическая подготовка, основы культуры общения и мышления); специфическим российским требованиям (погружение в историю и культуру России, знание современной ситуации и российских проблем, готовность участвовать в их решении и т.п.)17. Кроме указанных, к «кентавру» предъявляются еще и требования, определяемые его национальной принадлежностью: знание и владение национальным языком, знание национальной истории и культуры, та или иная степень погруженности (вовлеченности) в национальную жизнь. «Кентавр» должен понять, осознать и усвоить этнические ценности своего народа как установки, ориентации, направленные на создание и поддержание определенных условий, при которых обеспечивается сохра- пение равновесия в этнической экологии, саморазвитие этноса. Обеспечить полноценную подготовку таких «кентавров» способны только этнокультурнокомпетентные педагоги.
Список литературы Этнопсихологические особенности марийского этноса в профессиональной деятельности педагога
- Магомедов Ш.Я. Формирование культуры педагогического общения будущего учителя с многонациональным коллективом: Дис... канд. пед. наук. М., 1992
- Лебедева Л.И. Профессиональная подготовка учителя к учебно-воспитательной работе в начальных классах - с многонациональным составом учащихся: Дис... канд. пед. наук. М., 1994.
- Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999. С. 223-224.
- Кузнецов С.К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис // Этнографическое обозрение. 1904. № 2. С. 56-109.
- Мендиаров. О черемисах Уфимской губернии // Этнографическое обозрение. 1894. № 3. С. 34-53.