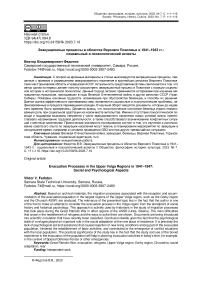Эвакуационные процессы в областях Верхнего Поволжья в 1941-1943 гг.: социальный и психологический аспекты
Автор: Федотов В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
С опорой на архивные материалы в статье анализируются миграционные процессы, связанные с приемом и размещением эвакуированного населения в крупнейших регионах Верхнего Поволжья, таких как Горьковская область и Чувашская АССР. Актуальность представленной темы заключается в том, что автор одним из первых делает попытку рассмотреть эвакуационный процесс в Поволжье с позиции социальной истории и исторической психологии. Данный подход активно применяется историками при изучении миграционных процессов, проходивших в годы Великой Отечественной войны в других регионах СССР (Урал, Сибирь). Показаны основные трудности, возникавшие при обустройстве беженцев, и способы их решения. Дается оценка эффективности принимаемых мер, выявляются социальные и психологические проблемы, зафиксированные в процессе перемещения граждан. В научный оборот вводятся документы, которые до недавнего времени были засекречены. Делается вывод, что психологическое состояние беженца играло немаловажную роль при социальной адаптации на новом месте жительства. Именно отсутствие психологической помощи и поддержки вызывало неприятие у части эвакуированного населения новых условий жизни, препятствовало налаживанию трудовой деятельности, а также способствовало возникновению конфликтных ситуаций с местным населением. Практическая значимость исследования состоит в том, что изучение и использование советского опыта по эвакуации населения могут помочь в планировании мероприятий по эвакуации в сегодняшнее время, например в условиях проведения СВО или при других чрезвычайных ситуациях.
Великая отечественная война, эвакуация, беженцы, верхнее поволжье, горьковская область, чувашия, социальная адаптация, тыл
Короткий адрес: https://sciup.org/149143449
IDR: 149143449 | УДК: 94(47).084.8 | DOI: 10.24158/fik.2023.7.16
Текст научной статьи Эвакуационные процессы в областях Верхнего Поволжья в 1941-1943 гг.: социальный и психологический аспекты
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия, ,
,
В тяжелые годы Великой Отечественной войны миллионы граждан СССР были вынуждены эвакуироваться из своих домов, сел, деревень, городов в более безопасные регионы страны. Эвакуация населения – это сложный и ответственный процесс, результат которого зависит от правильной организации и планирования. Важно при этом учитывать индивидуальные потребности и особенности каждого эвакуируемого человека, вне зависимости от его возраста, здоровья.
Не вызывает сомнений, что эвакуация, а также трудности, порожденные этим процессом, стали дополнительным психологическим испытанием для миллионов советских людей. Действительно, граждане не имели представления о том, куда их везут, сколько продлится эвакуация, что ожидает их в глубоком тылу.
Одним из регионов приема эвакуированного населения стало Верхнее Поволжье – Горьковская область и Чувашская АССР. Они обладали соответствующей транспортной и гражданской инфраструктурой, способной принять и обустроить десятки тысяч эвакуированных граждан.
Эшелоны с беженцами начали прибывать в июне 1941 г. По решению СНК СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время», в городах региона и на узловых железнодорожных станциях, а также на пристанях была развернута сеть эвакуационных пунктов I и II классов для приема беженцев. Как мы отмечали в предыдущей статье, с учетом специфики регионов эвакуированное население в Горьковской области размещалось преимущественно в городах и районных центрах, а в Чувашии – в сельской местности (Федотов, 2019).
Приведем несколько цифр, которые показывают стремительную динамику прибытия беженцев в области и республики Верхнего Поволжья. С 28 июня по 25 июля только через эвакопункт Горького прошло 100 000 чел., из которых 80 000 чел. были транзитными и направлялись в другие области. К 7 сентября 1941 г. в Горьковскую область прибыло 135 875 чел., к 1 мая 1942 г. – 143 831 чел. На 1 декабря 1942 г. насчитывалось 185 885 беженцев1.
По состоянию на 1 апреля 1942 г. в городах и районах Чувашской АССР было размещено 70 715 беженцев (Ефимов, 2020; Толстова, 2016, 2020). Характеризуя половозрастной состав эвакуированных, следует отметить большую долю детей – 30 960 чел. (до 15 лет) и женщин – 30 8962.
Из общего числа эвакуированного населения рабочих и служащих, прибывших с предприятиями, насчитывалось 5 367 чел., остальные беженцы прибыли отдельными группами и эшелонами – 64 442 чел.3
Больше всего эвакуированных было из РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Помимо них были и выходцы из других союзных республик и областей СССР. В особую группу можно выделить граждан иностранных государств, а также Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, относительно недавно вошедших в состав СССР. История пребывания этой группы граждан в эвакуации может стать отдельной темой исследования.
Горьковская область и Чувашская АССР приняли за годы войны 86 детских домов и интернатов. К 1943 г. здесь было размещено свыше 80 000 детей в возрасте до 14 лет. Таким образом, цифры показывают, что половину эвакуированных составляли дети – наименее социально защищенная группа населения (Серебрянская, 2000).
Беженцы доставлялись в регион двумя разными организационными способами: плановая (организованная) и экстренная (неорганизованная) эвакуация. Плановая эвакуация проводилась в целях подготовки населения и предприятий к возможным чрезвычайным ситуациям, а экстренная – при непредвиденных обстоятельствах, чаще всего вызванных резкой сменой ситуации на фронте, когда необходимо было максимально быстро и эффективно реагировать на происходящее событие. Как правило, большая часть эвакуированных прибывала в порядке плановой эвакуации, к ним относятся рабочие и управленческий персонал, которые перемещались в тыл вместе со своими предприятиями и организациями, детские учреждения с их воспитанниками, государственные и партийные служащие и члены их семей, представители интеллигенции, науки и образования.
Термин «неорганизованное эвакуированное население» относится к лицам, которые самостоятельно, под угрозой захвата в плен бежали от врага. Добравшись до эвакуационного пункта, они размещались в эшелонах и отправлялись в тыловые районы.
Необходимо понимать, что у человека, попавшего под эвакуацию, зачастую не было возможности решать – оставаться дома или эвакуироваться. Работники предприятий были обязаны перебазироваться на Восток вместе со своим производством. Уклонившиеся граждане могли быть привлечены к юридической ответственности, в том числе уголовной.
В города преимущественно эвакуировались трудовые коллективы промышленных предприятий и служащие разных ведомств. По городам Горьковской области было размещено около 60 000 чел., вместе с предприятиями – 9 575; в сельской местности – 113 2111. Такой подход к размещению эвакуированных вел к тому, что значительная часть беженцев – женщины с детьми, а также люди пожилого возраста – располагались в деревнях и селах. «Гражданка Баруличева, эвакуированная из города Москвы с пятью детьми, гражданка Мосина, эвакуированная из города Москвы с двумя малолетними детьми, в деревне Сосновая проживает гражданка Гричухина О.В. с тремя детьми, гражданка Моисеева, также эвакуированная из Москвы, с пятью детьми, муж на фронте…»2.
Документы показывают, что это решение отрицательно сказывалось на уровне социальной защищенности эвакуированных граждан. Во-первых, жизнь в сельской местности была в разы тяжелее, чем в городе; во-вторых, удаленность от городов стала одной из причин, не позволявших органам власти быстро реагировать на конфликтные ситуации.
Статистические данные, а также письма и воспоминания очевидцев тех событий позволяют исследователю выявить комплекс материально-бытовых трудностей и психологических проблем, возникавших у беженцев во время пребывания в эвакуации, а также обозначить способы их преодоления (Янковская, 2004).
Первым вопросом, который стоял на повестке дня, было размещение беженцев, поиск необходимой для этого жилой площади. Архивные материалы свидетельствуют, что основным способом расположения стало вселение эвакуированных граждан в государственный и частный жилой фонд, которое в народе называли «уплотнением». Проживать в такой обстановке было крайне тяжело. Скученность, отсутствие элементарных предметов гигиены создавали условия для распространения инфекционных заболеваний. Зачастую домовладельцы выступали против подобного соседства. Факты и свидетельства подобных событий приведены далее. Под жилье для эвакуированных частично передавались помещения школ, детских садов, переоборудовались склады и другие виды нежилых помещений, а также здания социально-культурных учреждений. Повсеместно поддерживалось упрощенное индивидуальное строительство как один из способов решения жилищной проблемы для работников эвакуированных предприятий, развернувшееся в массовом порядке с конца 1942 г. Тем не менее вопрос с жильем оставался актуальным вплоть до начала реэвакуации населения и решился сам собой по мере возвращения беженцев на прежнее место жительства.
Не менее важной стала задача трудоустройства эвакуированных, так как ее решение позволяло улучшить их материальное и финансовое положение. В июле 1941 г. было принято постановление «О работе с эвакуированными». Перед местной партийной властью Правительство СССР и ЦК ВКП(б) поставило цель в недельный срок обеспечить всех трудоспособных эвакуированных граждан работой на предприятиях, в организациях, учреждениях и колхозах региона. Разумеется, за столь короткий период данную задачу выполнить было невозможно, но это в очередной раз доказывает, что вопросы трудоустройства всегда находились на контроле у государственных структур.
К концу 1942 г. в Горьковской области из общего количества эвакуированных (178 859) трудоспособными являлись 75 717 человек, из которых устроено на работу – 51 512 чел. Основная масса эвакуированных трудились в колхозах и совхозах – 23 948 чел., на предприятиях – 18 941, в учреждениях – 8 263 чел.3
Быстрее всего решалась проблема трудоустройства беженцев, прибывших в регион вместе с эвакуированными предприятиями и учреждениями. Их трудовая деятельность начиналась по мере развертывания производственных мощностей на новом месте. Граждане, размещенные в сельской местности, трудоустраивались в колхозы.
Важно определить эффективность принимаемых мер. Как по региону в частности, так и в целом по стране было трудоустроено 80–90 % беженцев. Причина того, что не все граждане были обеспечены работой, по нашему мнению, кроется в следующем: во-первых, сложности возникали с беженцами, прибывшими в индивидуальном порядке, пенсионерами, инвалидами, домохозяйками и гражданами, не имевшими специальностей и размещенными в селах; во-вторых, отсутствие мест в детских садах и яслях затрудняло трудоустройство женщин; в-третьих, отсутствие теплой одежды делало невозможным работу в зимнее время; в-четвертых, наблюдалась некомпетентность местных руководителей разного уровня, которые при распределении беженцев не учитывали наличие трудовых вакансий в районах областей и республик. Это приводило к тому, что граждане с высшим техническим образованием, инженеры, учителя направлялись в сельскую местность, где такое образование и профессии не были востребованы. Отмечалась и другая крайность, когда в селах размещали женщин, не приспособленных к тяжелому физическому труду, по этой причине они не могли работать в колхозах, хотя потребность в рабочей силе здесь присутствовала. «Эвакуированные работники МГУ доцент Н.В. Кальянов, его жена – биолог и другие имели назначение в Казань, но направлены были с эшелоном в Чарнухинский район, где выполняют физическую работу в колхозе и выражают поэтому поводу недовольство»1.
По нашему мнению, для воссоздания полной картины истории эвакуации населения актуальным является применение методов исторической психологии (исторической реконструкции, источниковедческого анализа, генетического). Они позволяют более глубоко изучить эмоциональное состояние человека, пережившего внезапную эвакуацию, которая могла проходить под налетами немецкой авиации, перемещение на тысячи километров в глубокий тыл и размещение в незнакомой местности.
Мы согласны с мнением российского историка М.Н. Потемкиной (2016, 2017), что психологическое и эмоциональное состояние человека во время эвакуации можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство, представляющее собой тяжелое психическое состояние с характерными для него признаками: раздражительностью, беспокойством, отчужденностью, постоянным недоверием, повышенной конфликтностью, страхом. Противоречивость ситуации заключается в следующем: с одной стороны, человек понимал, что эвакуация – это спасение, шанс выжить для него и его семьи, с другой – она ставит перед ним массу новых вопросов и сложнейших проблем – где жить, где искать работу, как обеспечить семью и т. д.
Не будем сбрасывать со счетов и имущественный вопрос. Эвакуируясь, граждане были вынуждены оставить свое жилье, нажитое имущество, ведь размер багажа, который мог взять с собой беженец, был строго регламентирован (не более 50 кг).
Сам процесс перемещения сопровождался тяжелейшими испытаниями. Нередко в суматохе эвакуации люди теряли детей, разлучались семьи. Частыми были случаи, когда эшелоны с беженцами в прифронтовой полосе попадали по бомбежку фашисткой авиации. Переполненность вагонов, дефицит продуктов питания, а порой и их отсутствие, плохое санитарное обслуживание способствовали возникновению заболеваний и становились причинами смерти эвакуированных как в пути следования, так и в эвакуационных пунктах. Несомненно, стресс и моральное состояние беженцев также можно отнести к факторам смертности.
Эвакуированным гражданам в подавляющем большинстве в материально-бытовом и психологическом плане приходилось гораздо тяжелее, чем коренному населению. Долгое пребывание в трудных материально-бытовых условиях, отсутствие работы и связи с родными и близкими, бездушие чиновников отражались как на физическом здоровье человека, так и на его поведении. К сожалению, часть эвакуированных видели только один способ выхода из этой ситуации – суицид, примеры подобного состояния также можно проследить по письмам и воспоминаниям беженцев.
Помимо этого, депрессивное состояние могло стать одной из причин конфликтных ситуаций, возникавших в процессе общения с местными жителями, при выполнении трудовой деятельности. Но и местное население зачастую видело в эвакуированных гражданах людей, которые хотят забрать их кусок хлеба, жилье, работу, ограничить и без того урезанные войной социальные права. «В деревне Сосновая эвакуированная Гричухина, семья военнослужащего, живет вместе с хозяевами, которые стараются ее выгнать, обратилась к председателю сельского совета, тот не только ей не помог, но и обозвал ее “гитлеровцами”»; «имел случай избиения эвакуированной гражданки Амелиной в деревни Ижекеи. Секретарь сельского совета подговорил подростков и, когда она выходила с собрания, подростки бросались в них поленьями и камнями»2.
Обращение в органы власти для защиты своих прав не всегда обеспечивало должный результат. Как свидетельствуют источники, далеко не всегда беженцам оказывалась какая-либо помощь, многие руководители закрывали глаза на просьбы. Выдержка из архивного документа: «В Заводском сельском совете гражданка Шихматова избила эвакуированную гражданку Куприну Л.В., которая проживала в доме Шихматовой. На нее инспектором по трудоустройству эвакуированного населения был составлен акт и передан в прокуратуру Чебоксарского района. При проверке движения этого дела выяснилось, что весь этот материал лежал у прокурора, по нему никаких мер не было принято лишь потому, что не было письменного заявления от потерпевшей»3. Этот вопиющий случай бездействия стал предметом рассмотрения Совнаркома Чувашской АССР. В том же сельском совете были вскрыты и другие случаи грубого отношения к беженцам. Приведенные факты стали предметом разбирательства со стороны НКВД СССР. Это еще раз доказывает аргумент о том, что вопросы социальной адаптации эвакуированных граждан всегда находись под контролем государства.
Важным источником изучения данной проблематики являются письма и воспоминания беженцев. Они дают возможность понять их психологическое и эмоциональное состояние. Далее процитирован ряд писем эвакуированных жителей Москвы, с которых был снят гриф «секретно»1. Выдержки из письма Лидии Ровенко мужу, полковнику РККА: «Проклинаю день и час толкнувший в эту пропасть – Чувашию, царство дикарей и зверей – чувствую, что здесь погибну, если не удастся вскоре уехать. Умоляю, найди возможность вырвать меня из этой проклятой, злополучной Чувашии»; письма гражданки Денискиной, проживающей в деревне Нижние Кубасы Сундыр-ского района ЧАССР: «Мы живем очень плохо, все дорого. Хотим добраться до русских, а чуваши нас ненавидят. Как жить дальше мы не знаем. Если нам тут жить, то мы умрем с голода»2; поистине полное отчаяния письмо эвакуированной Моисеевой, размещенной в городе Алатырь: «На работу устроиться можно только уборщицей, разве можно остаться пожизненно здесь? Нет, лучше в Суру <приток Волги>, твердо лучше не коптить небо…»3. Не будем впадать в крайность, утверждая, что подобные случаи и настроения были массовыми среди беженцев, но в то же время они не были единичными.
Такая нервозная обстановка порождала желание скорее вернуться домой. Когда началась реэвакуация населения, тысячи беженцев были готовы за свой счет и в нарушение многочисленных предписаний и запретов вернуться на родину.
Итак, в отличие от материальных, социально-бытовых проблем вопросы психологического состояния эвакуированных граждан не стали предметом пристального внимания со стороны органов власти. Вместе с тем наблюдались и факты ложного обращения беженцев, когда жизненная ситуация представлялась в негативном свете в целях отъезда и региона. Исследование архивных документов, письма и воспоминания беженцев еще раз убеждают, что социальная адаптация на новом месте напрямую зависела от психологического самочувствия человека.
Что же помогло людям выжить и преодолеть это суровое испытание? По нашему мнению, здесь можно выделить несколько обстоятельств. Во-первых, война сплотила народ ради спасения Отечества, люди перестали обращать внимание на собственные проблемы и трудности, а кто-то, потеряв родных и близких на фронте, делился последним куском хлеба с эвакуированным ребенком, пытаясь тем самым сгладить боль своих утрат. Во-вторых, успехи на фронте и вера в победу служили стимулом, вдохновляли людей, заставляли их забывать о трудностях и невзгодах. В-третьих, органы государственной и партийной власти на всем протяжении войны старались держать под контролем вопросы оказания материальной и психологической помощи беженцам, уделяя большое внимание идеологической работе, делая акцент на коллективизме советского народа.
Дальнейшее изучение темы эвакуации населения с использованием методов исторической психологии позволит в полном объеме восстановить героическую, а порой и трагическую картину пребывания эвакуированных граждан на волжской земле, понять и осмыслить цену, которую наш народ заплатил за Победу.
Список литературы Эвакуационные процессы в областях Верхнего Поволжья в 1941-1943 гг.: социальный и психологический аспекты
- Ефимов Л.А. Сплоченная работа эвакуированного и местного населения Чувашии в тылу как источник победы над фашистской Германией // Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 3. С. 22-29. DOI: 10.47026/2712-9454-2020-1-3-22-29 EDN: ZUGGHA
- Потемкина М.Н. "Выковыренные": личностное восприятие эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Магнитогорск, 2016. 151 с. EDN: XCKXRJ
- Потемкина М.Н. Реэвакуация населения СССР в 1943-1947 гг.: социальный и психологический аспекты // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: История. Политология. 2017. Т. 41, № 1 (250). С. 142-147. EDN: YIXVIZ
- Серебрянская Г.В. Из истории ленинградской эвакуации на Волгу (по рассекреченным материалам Горьковского партархива) // Факты и версии: историко-культурологический альманах: исследования и материалы. СПб., 2000. Вып. 1. С. 55-58.
- Толстова Н.Ю. Национальный состав эвакуированного на территорию Чувашии населения и особенности его размещения // Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 1. С. 59-65. EDN: BZFLQI
- Толстова Н.Ю. Эвакуированное население в Чувашии в годы Великой Отечественной войны: региональная историография второй половины XX в. // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38). С. 105-110. EDN: WBWLOT
- Федотов В.В. Эвакуированное население в Горьковской области (1941-1945 гг.) // Манускрипт. 2019. Т. 12, № 6. С. 76-80. DOI: 10.30853/manuscript.2019.6.14 EDN: HWDCJG
- Янковская Г.А. Эвакуация, или диалог поневоле // Родина. 2004. № 6. С. 20-23. EDN: UHKZTL