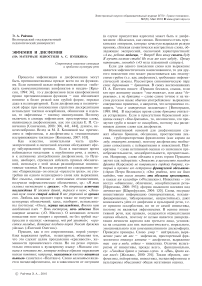Эвфемия и дисфемия (на материале идиостиля А. С. Пушкина)
Автор: Райчева Элизабет Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Современная языковая ситуация и проблемы культуры речи
Статья в выпуске: 1 (6), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен вопрос о соотношении эвфемии, дисфемии и тропики в художественной речи. Выявлено отличие дисфемизмов от эвфемизмов, пейоративов, инвектив, псевдоэвфемизмов, вульгаризмов. Предпринята попытка проанализировать эвфемию и дисфемию в художественном тексте с точки зрения стилистики, точнее, – приемов уместности речи.
Эвфемия, эвфемизм, дисфемия, дисфемизм, пейоратив, инвектива
Короткий адрес: https://sciup.org/14821515
IDR: 14821515
Текст научной статьи Эвфемия и дисфемия (на материале идиостиля А. С. Пушкина)
Процессы эвфемизации и дисфемизации могут быть противопоставлены прежде всего по их функциям. Если основной целью эвфемизмов является «избежать коммуникативных конфликтов и неудач» [Кры-син, 1994: 34], то у дисфемизмов (или какофемизмов) прямо противоположная функция – они обозначают понятие в более резкой или грубой форме, нередко даже в нелитературной. Если дисфемизмы в политической сфере при воплощении стратегии дискредитации используют тактики оскорбления, обвинения и издевки, то эвфемизмы – тактику манипуляции. Поэтому включать в словарь эвфемизмов просторечные слова, являющиеся дисфемизмами, как это сделала Е. П. Сеничкина [Сеничкина, 2008: 306, 441, 444], думаем, нецелесообразно. Вслед за М. Л. Ковшовой мы причисляем и эвфемизмы, и дисфемизмы к «эмоционально настраивающим тактикам» [Ковшова, 2007: 105].
Как известно, значительная часть грубоэкспрессивной и оценочной лексики обслуживает сферу табуированной эротики. Если в настоящее время наблюдается тенденция к огрублению речи, а значит, и к активному употреблению дисфемизмов, то Пушкин, наоборот, стремился избежать прямых обозначений, используя с этой целью разнообразные номинативные тактики. В весьма игривой по содержанию поэме «Гавриилиада» он описал «прелести греха», не употребив ни одного нецензурного слова или выражения. Все смыслы, связанные с интимными отношениями, получили эвфемистическое обозначение, ср.: « И там склонил несчастную к грехам »; « Он вопрошал источник наслажденья И закипев душой, терялся в нем »; « Ленивый муж своею старой лейкой В час утренний не орошал его ». Любовь как предмет торга также не получает нецензурных обозначений; здесь, наоборот, использованы поэтизмы: « Ольга, жрица наслажденья , Внемли наш влюбленный плач – Ночь восторгов , ночь забвенья Нам наверное назначь » («О. Масон»). О женщинах легкого поведения поэт говорит с иронией, но без грубой экспрессии и оценки: « женщина, чей род занятий »; « красотки молодые, Которых позднею порой Уносят дрожжи удалые » («Евгений Онегин»).
Пушкин, как и его современники, порой употреблял выражения грубые, нецензурные, объясняя тем, что это служит целям преодоления «красивости», жеманности прозаического стиля. Но он резко отрицательно относился к вульгарному языку: « Низкими словами я почитаю те, которые подлым образом выражают низкие понятия; например, нализаться вместо напиться пьяным » (заметка о «Полтаве»). Слово нализаться является псевдоэвфемизмом, но в зависимости от ситуации
(в случае присутствия адресата) может быть и дисфе-мизмом: « Нализался, как свинья ». Вспомним стиль пушкинских эпиграмм, которые зачастую выражали резкую иронию, сближая семантически контрастные слова, обладающие экспрессией, оценочной характеристикой: « А вы, ребята- подлецы , – Вперед! Всю вашу сволочь буду Я мучить казнию стыда! Но если же кого забуду, Прошу напомнить, господа !» («О муза пламенной сатиры»).
Если для одного поколения слово или выражение является эвфемистическим наименованием, то для другого поколения оно может расцениваться как недопустимо грубое (т.е. как дисфемизм), требующее эвфемистической замены. Рассмотрим синонимическую пару слов: беременная – брюхатая . В своих воспоминаниях П. А. Плетнев пишет: «Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет: “ она тяжела », или даже “ беременна », а не брюхата – слово самое точное и на чистом русском языке обычно употребляемое выражение совершенно прилично, а напротив, что неприлично говорить “ она в интересном положении »» [Виноградов, 1999: 846]. В настоящее время слово брюхата считается устаревшим. Если в присутствии беременной женщины скажут « Она брюхата », то, несомненно, это прозвучит грубо и может ее оскорбить, поэтому мы расцениваем данное слово как дисфемизм.
Номинативной основой для дисфемизации служит обычно бранная, обсценная, просторечная лексика, грубопросторечная фразеология ( как корова на льду, откинуть копыта ), поэтому дисфемизмы необходимо сопоставить с пейоративами и инвективой. Пей-оративы – слова негативной оценки со значением пренебрежительности, неодобрительности, презрительности. Например, слово обезьяна в устах героев Пушкина звучит как пейоратив: « Ловкость и щегольство молодого франта (Корсаков) не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною » («Арап Петра Великого»); « Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения , и кинула им каламбур » («Рославлев»). Инвектива – это всегда «обвинение, обличение, оскорбительная речь» [Ефремова, 2000: 593]; «форма языкового насилия над личностью» [Шарифуллин, 2004: 120]. Слова, несущие инвективную информацию (ненормативные, некоди-фицированные, табуированные, непристойные), дают возможность уйти от дисфемии и вульгарной речи, т.е. от прямого оскорбления, но не от самой инвективы, поэтому не являются эвфемизмами. В основе инвективной речи, как правило, содержится отрицательная оценка объекта, поэтому ее целью является дискредитация личности адресата или третьего лица, установка на создание для них психологического, морального, эмоционального или коммуникативного дискомфорта. Приведем примеры. Слово умер – нейтрально, выражение ушел от нас – эвфемизм, просторечный фразеологизм откинул копыта – дисфемизм, выражение так ему и надо, собаке – инвектива. Отличие вульгаризма от инвективы, прежде всего, функционально, ср.: « Голодное брюхо к ученью глухо » и « Ишь, брюхо какое наел !» [Жельвис, 2000: 201]. Таким образом, дис-фемизмы, пейоративы, инвективы, псевдоэвфемизмы и вульгаризмы объединяет общая негативная оценка.
В художественном тексте к эвфемии и дисфемии необходимо подходить с точки зрения стилистики. Эв-фемия относится к приемам уместной речи, а дисфе-мия же – к приемам нарочитого несоблюдения требования ситуативной уместности речи. Использование Пушкиным в эпиграммах каламбуров – остроумных выражений, в основе которых лежит какой-либо прием языковой игры, нередко представляет собой эвфемизм и дисфемизм: « Ну, так, я празден, я без дела , А ты бездельник деловой » («Эпиграмма»); « Хоть, впрочем, он поэт изрядный, Эмилий человек пустой »; « Да ты чем полон , шут нарядный? А, понимаю: сам собой; Ты полон дряни , милый мой » («Эпиграмма»). Некоторые пословицы также можно отнести к дисфемии: « Того и гляди попадешь ему в лапы. Он малый не промах , никому не отпустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет » («Дубровский»).
Дисфемия как прием нарочитого несоблюдения требования ситуативной уместности речи активно используется в художественном тексте. Например, известная эпиграмма на графа Воронцова построена на игре слов полу - и прилагательного полный. В основе данного приема лежит нагнетание одноструктурных производных: « Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец ». Смысл заключается в следующем: М. С. Воронцов как сын русского посла в Лондоне получил образование (« полу-милорд »), будучи наместником Новороссийского края, принимал участие в торговых операциях одесского порта (« полу-купец »), а слово подлец употреблено в значении ‘подхалим’. Как видим, налицо все признаки дисфемии.
В основе приемов эвфемии и дисфемии может лежать шутка, ирония. Так, к примеру, выражение « не совсем здоровый » как элемент «чужой речи» используется как средство выражения иронии ( не совсем здоровый – вм. с похмелья, пьяный ) в эвфемистической функции: « И Фля-нов, не совсем здоровый ...» («Евгений Онегин»). Выражение « как зюзя пьяный », которое взято из «гусарского языка» (впервые его ввел в поэзию Д. В. Давыдов), является дисфемизмом: « А завтра – черт возьми! – как зюзя натянулся » («Решительный вечер»). У Пушкина оно используется в шутливом контексте: « И то сказать, что и в сраженье Раз в настоящем упоенье Он отличился, смело в грязь С коня калмыцкого свалясь, Как зюзя пьяный , и французам Достался в плен: драгой залог » («Евгений Онегин»).
М. Л. Ковшова относит к приемам дисфемии (называя их полудисфемизмами) апокопу, синкопу, усечение грубого выражения [Ковшова, 2007: 123]. Мы считаем, что все это – виды графического эллипсиса, использованные в эвфемистической функции. Например, апокопа: « Кстати о Уварове: это большой негодяй... Об нем сказали, что он начал тем, что был б. .., потом нянькой, и попал в президенты Академии наук » (О Дундукове, Уварове. Февраль 1835 г.); опущение основного грубого (табуированного) компонента: « А сват Трофим, который у тебя И день, и ночь? Весь город это знает. Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна, А всякого словами разобидишь; ... соломинку ты видишь, А у себя не видишь и бревна » («От всенощной вечор идя домой»).
Определение «Дисфемизм – троп, состоящий в замене естественного в данной ситуации обозначения какого-либо предмета более вульгарным, фамильным или грубым» [Ахманова, 1969: 137] требует остановиться на вопросе о соотношении эвфемизма, дисфемизма и тропики. Одни ученые считают, что «по семантической структуре эвфемизмы – одна из разновидностей тропа, отличие только в ее назначении и в сфере применения» [Ларин, 1977: 110], другие причисляют эвфемизм к тропам (Б. В. Томашевский, О. С. Ахманова, В. И. Забот-кина), третьи утверждают, что эти два понятия пересекаются. Более убедительной нам представляется точка зрения Е. П. Сеничкиной: «...эвфемизм может быть основан на тропике, способен выполнять украшающую функцию в художественном тексте, но не все из них обладают декоративной функцией <...> многие поэтические тропы лишены эвфемистической функции» [Сеничкина, 2006: 75]. Приведем пример авторской метафоры, используемой как прием шутливой эвфемии: « Но твой затейливый навоз Приятно мне щекотит нос: Хвостова он напоминает, Отца зубастых голубей » (Из письма к Вяземскому» 1826). А вот следующая развернутая метафора не является эвфемизмом: « И ты со мной, о лира, приуныла, Наперсница души моей больной! Твоей струны печален звон глухой, и Лишь любви ты голос не забыла » («Разлука») . Таким образом, многие тропы (метафора, метонимия, синекдоха, мейозис) способны выполнять эвфемистическую функцию, но это не значит, что всякий троп – это эвфемизм. Существуют различные определения тропов в широком и узком смыслах. Мы придерживаемся следующего: тропы – «это семантически двуплановые наименования, используемые в качестве декоративных средств в художественной речи» [Москвин, 2007: 5]. Значит, только при наличии знаковости, двуплановости и декоративности стилистическая фигура может называться тропом, основная ее функция – декоративная (украшающая), дисфемизмы же используются с целью оскорбить, унизить, обидеть собеседника.
Подводя итоги, отметим, что в отличие от эвфемизмов, дисфемизмы не могут приобретать статус тропов и в художественной речи используются как средство стилизации просторечия, яркой эмоциональной оценочно-сти, вступающие, впрочем, в явный конфликт с требованием ситуативной уместности речи.
Список литературы Эвфемия и дисфемия (на материале идиостиля А. С. Пушкина)
- Ахманова О. С. Тайные языки//Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1969.
- Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1999.
- Ефремова Т.Ф. Новый толково -словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. М.: Рус. яз., 2000. Т. 1
- Жельвис В. И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия//Юрислингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000.
- Ковшова М. Л. Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический словарь современных русских эвфемизмов. М.: Глозис, 2007.
- Крысин Л. П. Эвфемистические способы выражения в современном русском языке//Рус. яз. в шк., 1994. № 5.
- Ларин Б. А. Об эвфемизмах//Проблемы языкознания. Л., 1977
- Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь. 3-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2007
- Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка: Спецкурс: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2006.
- Сеничкина Е. П. Словарь эвфемизмов русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008.
- Шарифуллин Б. Я. Языковая агрессия и языковое насилие в свете юрислингвистики: проблемы инвективы//Юрислингвистика-5. Барнаул, 2004.