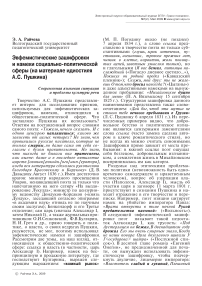Эвфемистические зашифровки и намеки социально-политической сферы (на материале идиостиля А.С. Пушкина)
Автор: Райчева Элизабет Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Современная языковая ситуация и проблемы культуры речи
Статья в выпуске: 1 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются наименования, относящиеся к сфере социально-политической жизни в творчестве А.С. Пушкина. Выделены приемы, позволяющие поэту косвенно обозначать события и людей социально-политической жизни России XIX в. Установлено, что в условиях тоталитарного, деспотического государства нежелание поэта оставаться в стороне от социально-политической жизни, мириться с существующими запретами способствовало активизации различного рода иносказаний, намеков, зашифровок, чтобы избежать санкций со стороны власти.
Эвфемистическая зашифровка, эвфемистический намек, ирония, апотропея, речевая маска, жанровая маскировка, аллюзия, аллегория, иносказание
Короткий адрес: https://sciup.org/14821413
IDR: 14821413
Текст научной статьи Эвфемистические зашифровки и намеки социально-политической сферы (на материале идиостиля А.С. Пушкина)
(М. П. Погодину около (не позднее) 7 апреля 1834 г.), а слово ссылка представлено в творчестве поэта не только субстантивными ( глушь, мрак заточенья , пустынник, изгнанник, тревога прежних лет, чижик в клетке, карантин, жаль покинутых цепей, заветным умыслом томим ), но и глагольными ( Я вас бежал , питомцы наслаждений («Погасло дневное светило...»), Покинул он родной предел («Кавказский пленник»); Скажи, мой друг: ты не жалеешь О том, что бросил навсегда? («Цыганы») и даже адъективными намеками на вынужденное пребывание: «Михайловское душно для меня» (П. А. Вяземскому 15 сентября 1825 г.). Структурная зашифровка данного наименования представлена также словосочетанием: «Дай бог, чтоб эта шутка не стоила тебе вечного пребывания в Грузии » (Л. С. Пушкину 6 апреля 1831 г.). Из перечисленных примеров видно, что добровольное бегство и политическое изгнание являются цензурными заменителями слова ссылка (часто замена сделана автором в ключе романтического стиля), но не всегда их можно считать синонимами. Зашифровки прямо зависят от места пребывания: в южной ссылке поэт ощущал себя беглецом, добровольным изгнанником, а семилетняя жизнь в Михайловском воспринималась им как каторга.
Раздумья над этическими проблемами политики (невозможность быть одновременно самодержцем и нравственным человеком), вопрос об узурпации власти (Наполеон, Александр I), мысль об участии царя в заговоре 11 марта 1801 г. присутствуют в сознании Пушкина и находят отражение в его творчестве и переписке. Например, поэт изящно цитирует намек на убийство императора Павла: «Врата отверсты в тьме ночной Рукой предательства наемной » («Вольность»). В следующей эвфемистической зашифровке поэт называет такой недостаток Александра I, как трусость: «Под Аустерлицем он бежал, В двенадцатом году дрожал Его мы очень смирным знали, Когда не наши повара Орла двуглавого щипали У Г<осударева> шатра » («Послужной список»). В десятой главе романа «Евгений Онегин», не предназначенной для печати, он вынужден использовать эвфемистическую зашифровку, чтобы подчеркнуть двуличие, лицемерие императора: «Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда», а также выразить намек на общественный подъем после угрозы двенадцатого года: «Тут Лунин дерзко предлагал Свои решительные меры И вдохновенно бормотал. Читал свои Ноэли Пушкин, Меланхолический Якушкин, Казалось, молча обнажал Цареубийственный кинжал». А в стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», которое при жизни поэта по цензурным соображениям не печаталось, Пушкин Александра I называет владыкой севера. В данной зашифровке скрыт подтекст: не без участия русского царя реакционная политика Священного союза задушила революционные движения на юге Европы. Справедливо назвал Ю.М.Лотман отношение Пушкина к Александру I «устойчиво негативным и окрашенным в тона личной неприязни , непрерывная цепь колких высказываний, эпиграмм и личных выпадов» (Лотман 1995: 253).
Пушкин находится в постоянном поиске новых приемов, новых способов зашифровки своих мыслей и чувств, чтобы выразить отношение к общественной жизни страны. Именно письма (особенно пересылавшиеся «по оказии») помогают исследователям проследить чувства, мысли и даже настроение автора. Гонения трактуются им как характерное проявление в России насилия и произвола, поэтому к нему и приходит мысль о том, чтобы « тихонько взять трость и шляпу…» (Л. Пушкину. Январь – начало февраля 1824 г.). Вэтих словах содержится намек на то, чтобы бежать за границу. Друзья отговаривают его от этой затеи, за это он их назвал «заступники кнута и плети». В письмах южного периода господствует дух недовольства, а гонения поэтом трактуются следующим образом: «Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника ; мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мною менее уважительно , нежели с любым английским балбесом, приезжающим предъявлять нам свою пошлость, неразборчивость и свое бормотание» (лето 1824 г.из Одессы). Через год, уже в ссылке в Михайловском, чувствуется тот же тон в отношении цензуры, царя: « черт с ними и с цензором, и с наборщиком, и с tutti quanti » (всеми прочими — лат.) (А. Н. Вульфу, конец августа 1825 г.)
Предлагаем рассмотреть приемы, позволяющие Пушкину косвенно обозначать события и называть людей, активно участвующих в социально-политической жизни России XIX в.К ним мы относим иронию, апотропею, речевую маску, аполог, жанровую маскировку, аллюзию, аллегорию, иносказание.
Ирония, которая, по справедливому замечанию В. П. Григорьева, «исполненная такта, была неуязвима для цензуры...» (Григорьев 1978: 569), часто встречается в творчестве поэта. Его иронические намеки выражаются с помощью слов и других единиц языка в значении, удаленном от прямого смысла до противоположного полюса (принцип «понимай наоборот»), например: великий наш певец, маститый собеседник в эпиграммах на Н.И. Надеждина как автора тяжеловесных архаичных стихов. Ирония звучит и в эвфемистических обозначениях царя, уточнении его местожительства: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске чрез его министров — и два раза воспоследствовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце , что против Петропавловской крепости» (Л. С. Пушкину. Январь — начало февраля 1824 г.).
Пушкиным активно используется прием апотропеи, в частности, «когда обличение отечественной действительности вуалируется «зарубежной тематикой» (Григорьев 1978: 569). Известно, что препоны цензурные и служебные в выборе объектов творчества, в содержании и трактовке сюжетов, даже в местожительстве и в передвижениях по собственной стране сопровождали Пушкина вплоть до гибели. Это нередко побуждало поэта маскировать стариной, особенно зарубежной, менее известной, свои идеи, оценки и чувства. Одним из примеров может послужить стихотворение «Лицинию», являющееся первой политической сатирой на порочную власть, выражающей протест против царского деспотизма. Свое возмущение правлением Аракчеева Пушкин направляет на Лициния, временщика Ветулия: « Любимец деспота сенатом слабым правит » . Античность служит и для выражения общественно-политических взглядов Пушкина.Так, работая над образом Тацита, поэт сравнивает Александра I с таким тираном, как Тиберий, а Воронцова называет
Сеяном (как воплощением злоупотреблений). Об этом он пишет П.А. Вяземскому: «Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, кото-рая кончилась с моей стороны просьбою в отставку. Но чем кончат власти еще неизвестно. Тиберий рад будет придираться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня» (24 – 25 июня 1824 г.)». В «Замечаниях на “Анналы” данное предположение подтверждается: «Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственной необходимостью, то Тиберий прав» . Но Пушкин идет дальше и сравнивает Александра I с Агамемноном, вождем греческого ополчения в Троянском походе, иронизируя по поводу того, что победа не является заслугой русского императора: «Вы помните, как наш Агамемно н Из пленного Парижа к нам примчался И скоро силою вещей Мы очутилися в Париже...» («Была пора: наш праздник молодой...»). Таким образом, клеймя тиранов древности, поэт сближал золотой век римской литературы с правлением Александра, представив на суд читателей следующие аналогии: Александр I — Тиберий — Агамемнон.
Следующий прием мы назовем приемом речевой маски. Используя народное представление о юродстве как форме высказывания истины царям, Пушкин рассуждает: «В самом деле не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!» (П. А. Вяземскому, 13 и 15 сентября 1825 г.) и пишет трагедию «Борис Годунов», убежденный в том, что Александр легко разгадает его тайный умысел: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! » (Вяземскому П.А., около 7 ноября 1825 г.).В«Борисе Годунове» царь не только деспот, но и тиран, убийца, т. к. ступил через кровь невинного младенца — символ нравственной чистоты. Здесь, по мнению Пушкина, оскорблено нравственное чувство народа, и оно выражено устами юродивого: «Не буду, царь, молиться за царя Ирода, Богородица не велит ».
Жанровую маскировку мы также относим к приемам эвфемии. Чтобы покритиковать события минувшего года: обещание царя на Польском сейме 15 марта 1818 г. о конституционных формах правления,
Пушкин использует такой редкий жанр, как ноэль — французскую сатирическую песенку на мотив церковных рождественских песнопений, но называет свои сатирические стихи «Сказки» (No¸l): «Ура! в Россию скачет Кочующий деспот Мария в хлопотах Спасителя стращает: «Не плачь, дитя, не плачь, сударь: Вот бука, бука – русский царь! Пора уснуть уж наконец, Послушавши как царь-отец Рассказывает сказки» . На первый взгляд, невинные стишки, но подтекст содержит довольно сильные обвинения.
Жанр сказки служит Пушкину для сатиры на служителей православной церкви («Сказка о попе и о работнике его Балде»), крепостничество («Сказка о золотой рыбке), правящие сословия. За каждым персонажем в «Сказке о медведихе» стоит то или иное социальное явление или управленческая иерархия, например: «Прибегал туто волк-дворянин, У него-то зубы за-кусливые , У него-то глаза завистливые… ». А чтобы высмеять любителя подслушивать, он использует следующую зашифровку: «Во все время разговора он стоял позадь забора …» .
К такому жанру, как аполог, в основе которого лежит аллегория, мы относим «нравоучительные четверостишья» Пушкина: «Познай, светлейший лев, смятения вину, — Рек слон, — в народе бунт! Повсюду шум и клики!» «Смирятся, — лев сказал, — лишь гривой я тряхну ! Опасность не страшна для мощного владыки » . Образом льва, царя зверей, Пушкин показывает не столько силу, сколько деспотичность власти.
Аллюзия как при¸м эвфемии используется Пушкиным для создания подтекста, для намека, косвенной отсылки к какому-либо широко известному факту, например, в «Post scriptum» к стихотворению «Моя родословная» он пишет: «Решил Фиглярин, сидя дома, Что черный дед мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в руки шкиперу попал...» .
Аллегория, как и аллюзия, относится к иносказанию. В стихотворении «Анчар» древо яда, к которому «непобедимый» владыка отправляет раба за ядом, т.е. на верную смерть, ассоциируется с самодержавием, приносящим горе и смерть.
На более или менее ясных и понятных читателю иносказаниях построены многие произведения Пушкина. Если исходить из названия повести «Капитанская дочка», то предполагается, что главным героем повести будет Маша, но она фигурирует лишь в последней главе. Таким образом, можно предположить, что, используя историю Маши Мироновой, Пушкин показал время пугачевщины и портрет самого Пугачева, чтобы обмануть бдительность цензуры и подцензурной критики.Этот номинативносюжетный ход можно рассматривать как уловку или как своего рода иносказание.
По нашим наблюдениям, в условиях тоталитарного, деспотического государства нежелание Пушкина оставаться в стороне от социально-политической жизни, мириться с существующими запретами способствовало активизации различного рода иносказаний, намеков, зашифровок, чтобы избежать санкций со стороны власти.
Список литературы Эвфемистические зашифровки и намеки социально-политической сферы (на материале идиостиля А.С. Пушкина)
- Вольперт Л. И. Дружеская переписка Пушкина михайловского периода (сентябрь 1824 г. -декабрь 1825)/Л. И. Вольперт//Пушкинский сборник [Электронный ресурс]. Л., 1977. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/volpert/play/pisma.htm.
- Григорьев В. П. Эзопов язык/В. П. Григорьев//Большая Советская Энциклопедия. М., 1978. С. 569.
- Лотман Ю. М. Пушкин/Ю. М. Лотман. СПб., 1995.
- Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка: учеб. пособие к спецкурсу/В. П. Москвин. Волгоград: Перемена, 1999. 59 с.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т./А. С. Пушкин. М.: Воскресенье, 1994.