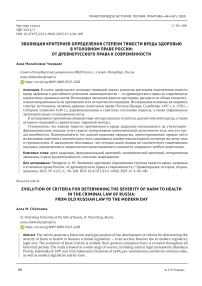Эволюция критериев определения степени тяжести вреда здоровью в уголовном праве России: от древнерусского права к современности
Автор: Чихрадзе А.М.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4 (47), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен историко-правовой анализ развития критериев определения тяжести вреда здоровью в российском уголовном законодательстве — от древнерусского права до современных нормативно-правовых актов. Исследована эволюция данных критериев, раскрыта их общая концептуальная направленность на протяжении всех исторических периодов. Исследование основано на широком спектре источников, включая древние памятники права (Русская Правда, Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное уложение 1649 г.), дореволюционные и советские уголовные кодексы, а также современные законодательные и подзаконные акты. В исследовании применены общенаучные методы анализа и синтеза, диалектический подход, а также историкоправовой и сравнительноправовой методы. Установлено, что оценка тяжести причиненного вреда здоровью основывалась на утилитарнофункциональном подходе (учет утраты потерпевшим анатомической целостности тела или его трудоспособности). Подчеркивается, что данная правовая парадигма, ориентированная прежде всего на внешнюю полезность человеческого тела, сохранялась концептуально единой, несмотря на смену эпох и терминологии. В заключение обосновано, что сегодня такой подход не соответствует современным научным, юридическим и медицинским представлениям о ценности здоровья и требует пересмотра.
Вред здоровью, функциональный критерий, экономический критерий, историческая эволюция, утрата трудоспособности, телесные повреждения
Короткий адрес: https://sciup.org/14134095
IDR: 14134095 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-47-4-96-100
Текст научной статьи Эволюция критериев определения степени тяжести вреда здоровью в уголовном праве России: от древнерусского права к современности
Введение
Проблема критериев определения степени тяжести вреда здоровью имеет длительную историю развития в уголовном праве России . От правильности выбора таких критериев зависит квалификация преступлений , справедливость назначенных наказаний , а также эф фективность защиты здоровья как объекта уголовно правовой охраны . В разные периоды исторического развития нашего государства законодатель неоднород но подходил к правовой оценке причиненного вреда здоровью потерпевшего : от казуистического перечня увечий и ран до построения сложной системы меди цинских и юридических признаков в современном за конодательстве . Однако , как показывают исследования , общим знаменателем для разных периодов развития законодательства сохранялась утилитарная природа этих критериев — они исходили из ущерба функциям тела или его способности к труду , а не из ценности здо ровья человека .
Вопросам квалификации причинения вреда здо ровью , в том числе и через исследование критериев его определения , посвящали свои труды как ученые дореволюционного периода ( В . Д . Снигирев , А . А . Жи - жиленко ), так и советские и российские ученые ( М . Д . Шаргородский , А . С . Никифоров , Н . И . Загород ников , Е . А . Рукавишников , Е . В . Безручко и др .). Они отмечали неоднозначность понимания критериев тя жести вреда здоровью и выдвигали предложения по их совершенствованию . Тем не менее до сих пор сохраня ются дискуссии о том , насколько современная система критериев соответствует актуальным достижениям права и медицины .
Цель данного исследования — показать , что на протяжении всей истории российского уголовного права подход к оценке тяжести причиненного здоровью вреда оставался концептуально единым ( утилитар но или функционально - утилитарно направленным ), и то что данный подход в современных условиях ну ждается в пересмотре .
Описание исследования
Одним из первых письменных источников русского пра ва , затрагивающих вопросы ответственности за причи нение вреда здоровью , является Русская Правда . В ней отсутствовала развитая классификация тяжести вреда здоровья и критериев ее определения в современном понимании . Документ уделял внимание скорее обстоя тельствам и способам нанесения повреждений , нежели их последствиям . В то же время в расширенной редак ции Русской Правды законодатель ставит строгость ( размер ) назначенного наказания ( штрафа — денежно го взыскания ) в зависимости от тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью . В ней также предусмо трен штраф в размере 3 гривен за применение физиче ского насилия к иностранцам ( ст . 31) [3, с . 128]. Однако необходимо отметить , что в Древнерусском праве сте пень определения тяжести вреда здоровью фактически основывалась на функциональном критерии .
Судебник 1497 г . и последующий Судебник 1550 г . стали первыми систематизированными актами цен трализованного государства , включившими нормы о преступлениях против личности , в том числе о те лесных повреждениях . Эти памятники русского права не содержали в себе дифференциации вреда здоровью , а следовали казуистическому подходу . В статьях упо минались конкретные ситуации : оскорбление словом , побои , нанесение ран и соответствующие меры нака зания , на строгость которых оказывали влияние обсто ятельства причинения вреда и положение в обществе потерпевшего [7, с . 176–200]. Указанные нормы ото бражали средневековое понимание справедливости : возмездие равно совершенному деянию с учетом со словной принадлежности , но без медицинской оценки ущерба здоровью . В итоге и на этом этапе преобладал утилитарный подход — наказание было ориентирова но на социальные последствия и влекло возмещение ущерба .
Соборное Уложение 1649 года, заложив основу функционального подхода к оценке тяжести телесных повреждений, юридически выделило два их вида — увечье как наиболее тяжкий вид, заключаю- щийся в утрате частью тела своих функций, и раны [8, с. 232]. Особо Соборное Уложение выделяло умышленное тяжкое увечье — деяние, направленное на причинение серьезного вреда здоровью, сущность которого заключалась в существенном снижении функциональной полноценности человека (лишение конечности, органа чувств, обезображивание). Фактически самым опасным вредом здоровья признавалось то повреждение, которое делает человека калекой, существенно ограничивая его способности и снижая возможность несения им службы.
В целом Соборное Уложение 1649 г . заложило ос нову функционального подхода : оно юридически диф ференцировало телесные повреждения по видам и тя жести . Наряду с тяжестью последствий принимались во внимание и другие факторы — способ и орудие при чинения вреда , личность потерпевшего ( например , осо бой охране подлежали родители , должностные лица ) [1, с . 409]. Но ключевой мерой оценки тяжести оставалось именно увечье — стойкое ухудшение телесной целост ности или работоспособности потерпевшего .
Система наказаний за причинение телесных по вреждений в Петровскую эпоху по - прежнему исходила из функциональной оценки вреда здоровью — увечье , то есть непоправимое повреждение органа считалось более тяжким преступлением , чем просто рана или по бои без долговременных последствий . Дополнительно вводилось понятие членовредительства — намерен ного увечья с целью уклонения от службы в армии [1, с . 410]. Подобная дифференциация уголовной ответ ственности , а также излишняя , как отмечается в юри дической литературе , строгость санкций того времени вполне объяснимы тем , что для государства физическое здоровье военных имело первостепенное значение .
Уложение о наказаниях уголовных и исправи тельных 1845 г . являлось первым полноформатным уголовным кодексом России , заложившим трехзвен ную систему телесных повреждений : увечья ( тяжкие и менее тяжкие ), раны , иные расстройства здоровья . Необходимо отметить , что именно в Уложении впервые в истории российского уголовного законодательства были заложены основы комбинированного подхода к оценке вреда здоровью , опираясь не только за зако нодательное перечисление типичных признаков вреда здоровью в самой норме права , но и на медицинские рекомендации — Врачебный устав . Законодатель фор мально заимствовал медико - биологические критерии ( анатомическая утрата органа , функциональная поте ря способности ) для оценки тяжести вреда , но вписал их в утилитарную логику : тяжким считалось то , что наносит наибольший физический ущерб полезности человека .
Уголовное уложение 1903 г., перейдя к трехзвенной классификации телесных повреждений, основывалось на тех же функциональных признаках, что были известны ранее. Уголовный закон подробно перечислял признаки тяжкого повреждения: опасное для жизни повреждение, лишение органа чувств, потеря конеч- ности и др. И хотя судебная медицина того времени сделала значительный шаг вперед, экономический критерий все еще не имел точной законодательной формулировки, что позволяет заключить: исторически, до революции, критерии определения тяжести вреда здоровью были преимущественно функциональными, оценивающими медицинские последствия для организма, а не экономическую ценность лица как работника.
Первый советский уголовный кодекс 1922 года фактически закрепил трехступенчатую дифференци ацию уголовной ответственности за причинение вреда здоровью , основанную на функциональном критерии ( утрата ключевых функций организма , эстетические дефекты ). Уголовный закон 1922 г . содержания самих критериев не раскрывал , подразумевая преемствен ность прежних подходов . Но важным новшеством ста ла ведомственная регламентация : в том же 1922 году Наркомздрав РСФСР и Наркомюст издали Правила для составления заключений о тяжести повреждений . Эти правила обязали судебно - медицинских экспертов определять , к какой категории относится причиненный вред . Таким образом , нельзя не согласиться с мнением А . Е . Рукавишникова о том , что в российском уголовном праве до начала ХХ века применялся исключительно функциональный критерий при оценке тяжести при чиненного противоправным деянием вреда здоровью [5]. Закон концентрировался на самом характере увечья и утрате важных функций организма , не пытаясь коли чественно измерить утрату трудоспособности .
Поворотной стала советская реформа уголовно го законодательства в 1926 году . Так , кроме перехо да к двухзвенной градации вреда здоровью , впервые в отечественном праве законодательно был закреплен экономический признак тяжести вреда здоровью , ис ключив критерий непосредственной опасности для жизни и заменив его « иным расстройством здоровья , соединенным со значительной утратой трудоспособ ности ». Первоначально этот признак носил оценочный характер , и постепенно , исходя из нужд практики , были разработаны специальные разъяснения : « Правила со ставления заключения о тяжести повреждения здоро вью » (1928 г .). Указанный нормативный акт установил количественные пороги определения категорий утраты трудоспособности . Исходя из этого , фактически здоро вье оценивалось через призму трудовой функции .
Советские криминалисты разделились во мнениях: одни поддерживали учет утраты трудоспособности как «прогрессивный социально-экономический признак, позволяющий учесть реальный ущерб обществу от преступления», другие же указывали, что трудоспособность — показатель производный, следовательно, тяжесть вреда следует определять преимущественно по медико-биологическим (функциональным) критериям (угроза жизни, тяжесть анатомических повреждений и т. д.) [2, с. 127]. В свою очередь, М. Д. Шаргородский, А. С. Никифоров и др. прямо отмечали, что здоровье человека представляет самостоятельную ценность, а ущерб должен измеряться степенью повреждения организма, а не утилитарными последствиями для его трудовой роли в обществе [4, с. 168; 9], с чем нельзя не согласиться и сегодня. Тем не менее, в 1920–1930-е гг. под влиянием идей производительности человека для государства экономический подход закрепился в законе и сохранился спустя столетие: УК РСФСР 1960 г. хотя и вернулся к классической трехзвенной градации вреда здоровью и признаку опасности для жизни при причинении вреда здоровью, однако сохранил и двойственный подход, который унаследовал и УК РФ 1996 г.
Стоит отметить , что в советский период систе ма критериев тяжести вреда здоровью развивалась не только в нормах УК , но и в ведомственных инструк циях для судебно - медицинских экспертов . После упомя нутых Правил 1922 г . были приняты новые нормативы : в 1928 г . Минздрав РСФСР утвердил обновленные пра вила судебно - медицинской оценки телесных повреж дений . Однако уже в 1960- е годы , в связи с принятием новых союзных УК , вновь возникла потребность уни фикации критериев . К тому времени уголовное зако нодательство вернулось к трехступенчатой классифи кации телесных повреждений . В определение тяжкого телесного повреждения были включены новые призна ки , развивавшие экономико - функциональный подход ( опасность для жизни и здоровья в момент причине ния , расстройство здоровья со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть и др .). Таким образом , к 1960- м годам советское уголовное право окончательно закрепило дуализм утилитарных критериев .
Действующий Уголовный кодекс Российской Феде рации 1996 г . внес изменения прежде всего в термино логию : в ст . 111–115 УК РФ законодательно закреплены категории тяжкого , средней тяжести и легкого вреда здоровью . Это отражало смену юридической концеп ции объекта преступления — с телесной целостности на здоровье человека как таковое [5]. Тем самым уго ловный закон формально признал , что вред может на носиться не только травматизацией тела , но и иным воздействием , и что здоровье охраняется именно в его широком понимании . Однако , несмотря на новую ри торику , по своей сути подход законодателя остался прежним . Критерии разграничения тяжести вреда , предусмотренные УК РФ и детализированные меди цинскими критериями определения степени тяжести вреда здоровью , практически воспроизводят прежние установки . Так , медицинские критерии определения степени тяжести вреда здоровью ( приказ Минздрав соцразвития РФ № 194 н от 24.04.2008) практически воспроизвели советскую систему критериев примени тельно к новым термином УК РФ .
Полувековой опыт правоприменения показал, что наличие в законе двух различных типов критериев не означает равнозначности их на практике. Фактически, практика игнорирует применение экономического критерия, отдавая приоритет функциональному. Так, судебно-медицинские эксперты зачастую ставят на первое место клинико-функциональные показатели вреда: при любом серьёзном увечье констатируется либо опасность для жизни, либо конкретная утрата функции, — и этого обычно достаточно для признания вреда тяжким. Статистические исследования подтверждают этот тезис. Так, на основании анализа 50 приговоров судов первой инстанции по городу Санкт-Петербургу за 2024 г. установлено, что признак «значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на 1/3» как самостоятельное основание квалификации тяжкого вреда не применялся. Это свидетельствует о том, что экономический показатель является практически неиспользуемым, и его сохранение в системе уголовного закона не имеет прикладной значимости. В тоже время исследование приговоров показывает устойчивую тенденцию к приоритету функционального подхода в форме точного указания на конкретный физиологический вред — во всех 50 случаях. Новый порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 апреля 2025 г. № 172н) сегодня нивелировал значение экономического критерия, однако сохранил основной подход: тяжесть оценивается экспертно по медико-биологическим показателям, коррелирующим с утратой функций организма. Таким образом, даже самые современные нормативные решения продолжают двигаться в русле, заданном многие десятилетия назад.
Заключение
Историко - правовой обзор показывает , что на протяже нии более чем тысячелетнего развития отечественного законодательства критерии оценки вреда здоровью человека оставались концептуально единообразны ми . Несмотря на колоссальные изменения социальных формаций , смену идеологий и научные прорывы в ме дицине — уголовно - правовая парадигма оценивает тяжесть вреда здоровью в первую очередь по утили тарным меркам : вред тем существеннее , чем сильнее он выводит человека из строя , нарушает целостность его тела или способность выполнять социально значимые функции ( трудиться , осуществлять обязанности и др .).
Устоявшаяся функционально-утилитарная парадигма сегодня все чаще подвергается критике. Современная медицина рассматривает здоровье не только как способность к труду, но и как состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Таким образом, нынешняя правовая модель оценки вреда здоровью, унаследованная от предыдущих эпох, не в полной мере соответствует современным представлениям. Она продолжает рассматривать здоровье человека как «биологического механизма», ущерб которому измеряется в плоскости его функциональной пригодности. Между тем, ценность здоровья в ХХI веке понимается шире — как благо личности, не сводимое лишь к утилитарной полезности. Многие исследователи отмечают сомнительность сохранения сугубо медицинских аспектов в юридической оценке вреда здоровью, поскольку это размывает гарантии прав потерпевших [6].
Подводя итог, можно констатировать: концептуальное единство утилитарно-функционального подхода к оценке тяжести вреда здоровью прослеживается во всем историческом спектре российского права — от Русской Правды до современного УК РФ и приказов Министерства здравоохранения. Подобная парадигма в современных условиях во многом исчерпала себя. Видится необходимость перехода к новым критериям, учитывающим достоинство личности и реальную ценность здоровья человека. Только переосмыслив устоявшиеся подходы, можно добиться того, чтобы уголовно-правовая охрана здоровья соответствовала современным научным знаниям и гуманистическим ценностям.