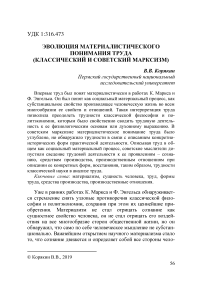Эволюция материалистического понимания труда (классический и советский марксизм)
Автор: Корякин В.В.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Культурологические и философские исследования
Статья в выпуске: 1 (3), 2019 года.
Бесплатный доступ
Впервые труд был понят материалистически в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Он был понят как социальный материальный процесс, как субстанциальное свойство производящее человеческую жизнь во всем многообразии ее свойств и отношений. Такая интерпретация труда позволила преодолеть трудности классической философии и политэкономии, которым было свойственно сводить трудовую деятельность к ее физиологическим основам или духовному выражению. В советском марксизме материалистическое понимание труда было углублено, но обнаружило трудности в связи с описанием конкретно-исторических форм практической деятельности. Описывая труд в общем как социальный материальный процесс, советские мыслители допустили сведение трудовой деятельности к ее проявлениям - сознанию, средствам производства, производственным отношениям при описании ее конкретных форм, восстановив, таким образом, трудности классической науки в анализе труда.
Материализм, сущность человека, труд, формы труда, средства производства, производственные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147230440
IDR: 147230440 | УДК: 1:316.473
Текст научной статьи Эволюция материалистического понимания труда (классический и советский марксизм)
веческого существования только потому, что является отражением производящей сущности человека, вторичным по отношению к нему явлением. Новый материализм учел влияние биологической организации человека и природной среды на общественную жизнь, установленное в классической философии, но выявил, что природные условия человеческого существования, в конечном счете, сами зависят от того, как люди организуют свою жизнь в процессе ее общественного производства.
Решение вопроса о сущности человека в историческом материализме осуществлялось в неразрывной связи с решением вопроса сущности труда, шире – материального производства. Труд был определен К. Марксом и Ф. Энгельсом как способ развития социальной материальной человеческой сущности. В данном плане родоначальники марксизма выявили известное тождество человека и труда, производящей сущности человека и человеческой сущности производства, что породило тесную связь социально-философской и политэкономической проблематики уже в ранних их исследованиях.
Наследуя достижения классической политэкономии (в первую очередь А. Смита и Д. Рикардо), К. Маркс существенно углубил решение вопроса о субстанциальном характере труда. Экономисты-классики предприняли попытку вскрыть источник общественных отношений и общественного развития в труде, но не смогли обнаружить источников самодвижения в самом труде. Субстанциальный характер труда, таким образом, был схвачен в неполном виде. Неполнота определения субстанциального характера труда в итоге сказалась на том, что классической политэкономии не удалось последовательно вывести из труда всех феноменов не только общественной жизни в целом (впрочем, решение этой задачи не имело приоритетного значения ни для Смита, ни для Рикардо), но и экономической действительности в частности. К. Маркс изначально поставил проблему выявления источников самодвижения в самом труде: чтобы в полной мере быть субстанциальным свойством человека, труд должен определять не только все стороны социальной жизни, но и сам себя, выступать в качестве собственного основания, и лишь поэтому быть основанием всей социальной действительности.
Выявляя субстанциальное отношение труда ко всему многообразию человеческих проявлений, исторический материализм 57
одновременно вскрыл процесс порождения человеком (и трудом) самого себя, процесс самодвижения труда. В классической философии и классической политэкономии труд рассматривался в лучшем случае как процесс, создающий условия человеческого существования, условия реализации человеческой сущности, но не как процесс, порождающий само это существование и сущность, поскольку классическая наука отождествляла, в конечном счете, человека с его мышлением. Определив труд как процесс производства человеческой сущности и существования, исторический материализм обнаружил развивающийся характер труда. И в классической политэкономии, и в классической философии (даже в гегельянстве) труд, хотя нередко и определялся как основание или необходимое условие общественного прогресса, но сам по себе понимался как явление исторически неизменное. Классическая наука не знала исторических форм, или этапов развития труда. А. Смит, к примеру, полагал, что на любом этапе общественного развития труд является всегда тождественным себе, что и стало отправным принципом при анализе соотношения стоимостей и их соразмерности в классической политэкономии. Все стоимости, с позиции Смита, только потому могут быть приравнены друг к другу, что в их основе лежит всегда равный себе труд [1, с. 105–106].
Раскрыть развитие труда и его отношение к прочим человеческим свойствам и образуемым ими сферам и сторонам общественной жизни К. Марксу и Ф. Энгельсу удалось только благодаря выявлению его человеческой сущности. Уже в работе «К еврейскому вопросу» понимание общественного развития как процесса отчуждения индивида от собственной родовой сущности и постепенного снятия этого отчуждения было высказано К. Марксом со всей определенностью. Причем отчуждение человека от самого себя было увязано им с объективными общественными отношениями – отношениями частного присвоения, а преодоление отчуждения – с ликвидацией частной собственности. Более того, К. Маркс в той же работе бегло отметил, что сама частная собственность, как и ее преодоление, является продуктом человеческого труда [2, с. 400–406]. В некотором приближении К. Маркс пришел к выводу, что труд и порожденные им отношения собственности выступают в качестве способа развития родовой и индивидуальной человеческой сущности, лежат в основе ее объективного диалектического движения. Причем родовая и индивидуальная человеческая сущность была понята К. Марксом принципиально отличным от характерного для немецкой классической философии образом. Вывод о том, что труд – материальный процесс – порождает отчуждение человека от собственной сущности и снятие этого отчуждения, имплицитно содержал в себе понимание самой этой сущности как материальной.
Этот вывод был усилен и конкретизирован родоначальником нового материализма в его последующих работах: «К критике гегелевской философии права. Введение» и «Экономическо-философские рукописи 1844 года». В них К. Маркс напрямую вывел движение родовой и индивидуальной человеческой сущности из труда, определил труд как способ развития человеческой сущности и, как следствие, человеческого существования [3, 4]. Окончательное оформление трудовой теории человеческой сущности состоялось в совместной работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» [5].
В работах 1843–1844 гг. труд был определен предельно общим, но принципиальным образом как объективный процесс производства родовой и индивидуальной человеческой сущности, как процесс преобразования природы и самого человека, как процесс, в ходе которого люди производят не только самих себя, но и отношения между собой. Важным заключением при этом стало то, что труд ставит человека в отношение не просто к предметной действительности, частью которой является и сами люди, а к тому, что обще всем предметам. В рукописях 1844 г. К. Маркс делает важный вывод о том, что человек и практически, и теоретически делает своим предметом род – как свой собственный, так и прочих вещей, и относится к самому себе как к наличному живому роду, существу универсальному [4, с. 564]. В качестве важнейшей особенности труда, таким образом, была подмечена его способность преобразовывать общее в вещах и людях. Понимание направленности труда как свойства человека на преобразование общего во всей объективной действительности явно содержало вывод о субстанциальном единстве мира и человека и о труде как субстанциальном свойстве – способе развития не только самого человека, но и материального мира в целом.
Понимание труда как преобразования рода всех вещей имплицитно указывало на универсальный характер трудовой деятельности, схватывало в ней момент всеобщности. Понимание труда как преобразования человеческого рода указывало на особенный, только человеку присущий характер трудовой деятельности, вскрывало ее родовой, общественный характер. Особенные моменты труда схватывались и в том, что он был понят как преобразование не только рода всех вещей, но и отдельных родов вещей, общего, присущего отдельным классам предметов. В труде были схвачены и единичные моменты, поскольку в качестве субъекта труда рассматривался каждый индивид в отдельности, а в качестве предмета труда единичные вещи и единичные свойства вещей. В отношении к каждому человеку в отдельности труд был понят как индивидуальное по сущности свойство. В определении труда, таким образом, в сжатом виде содержалось понимание дифференцированного единства общих, особенных и единичных моментов труда.
В «Немецкой идеологии» и «Нищете философии» понимание сущности труда впервые получило уже развернутое определение. Предельно развернутое, конкретно-всеобщее определение труду было дано К. Марксом в «Капитале». В некотором смысле весь текст «Капитала» можно рассматривать как одно большое определение труда. Резюмируя наиболее важные приобретения К. Маркса и Ф. Энгельса в определении сущности труда, стоит, прежде всего, отметить, что труд был понят ими как субстанциальное свойство человека, производящее общественное бытие, а через него и общественное сознание людей в процессе преобразования природы. Труд был понят как социальный материальный процесс, в ходе которого люди создают необходимые им средства жизни и косвенным образом саму эту жизнь. Труд был понят как универсальная и потому высшая форма материальной активности, в процессе реализации которой происходит превращение и самого человека, и природы. Он был понят как родовая и индивидуальная деятельность людей, производство человека человеком и человеком самого себя одновременно.
Труд в историческом материализме был понят не только как процесс, но и как объективное отношение к самому себе (человека к собственной рабочей силе), к человеку, к другим людям, к природе. Причем это практическое отношение рассматрива- лось как объективное общественное отношение, в полной мере не сводимое к труду как к процессу, относительно самостоятельное и активное, оказывающее обратное действие на процессуальную сторону труда. Наиболее подробно труд как отношение был рассмотрен при анализе собственности и стоимости.
Труд в историческом материализме был поставлен в генетическое и функциональное отношение ко всем человеческим свойствам, которые по данной причине оказались увязаны между собой, иерархизированы и предстали в качестве особого выражения универсальной, родовой и индивидуальной сущности человека. Труд, к примеру, был понят не только как процесс своим бытием и своими продуктами (будь то произведенные вещи или жизненные человеческие состояния) удовлетворяющий человеческие потребности, но и как процесс, порождающий сами эти потребности. Потребности, с позиции К. Маркса, опосредуют реализацию труда, но сами они этим трудом, как и все моменты человеческого существования в целом, производятся. Труд предстал и как процесс реализации человеческих способностей во всей их совокупности, важнейшей из которых является способность к труду.
Труд был понят как целесообразная, осознанная деятельность, причем осознанная не только логически, но и нравственно, эстетически. При этом сознание, сопровождающее и опосредующее трудовую деятельность, рассматривалось как продукт этой деятельности, отражение ее и всего многообразия ее материальных условий и результатов. Труд был понят как общественная деятельность, реализующаяся только в процессе общения между людьми. Однако само это общение также рассматривалось как продукт труда.
Труд был понят как опосредованный средствами производства процесс, причем в качестве средств производства рассматривались не только технические средства (средства труда), но и предметы трудовой деятельности, в конечном счете, вся природа, весь материальный мир как всеобщий предмет производства. Средства производства также были поняты как продукты труда.
По большому счету, исторический материализм обнаружил тождество всех сущностных свойств человека в труде, но тождество диалектическое, которое не только не лишает все эти свойства качественной определенности и относительной самостоятельности, но и порождает их.
В отечественном марксизме тема субстанциальности труда и его исторических форм, движущих противоречий и направленности была существенно конкретизирована и углублена, однако начавшийся в середине XX в. кризис абстрактно-всеобщего исторического и диалектического материализма коснулся и этой ключевой для научной социальной философии проблематики. В «Капитале» труд получил наиболее развернутое и последовательное материалистическое определение. Причем он был определен и в абстрактно-всеобщем, и в конкретно-всеобщем диалектическом плане. К. Маркс достаточно подробно изложил в этой работе характеристики основных исторических форм труда (ручного, машинного, автоматизированного), определил движущие причины их смены. Однако основное внимание им было уделено все же современной ему форме труда, который в отношении к используемой в данном труде техники получил наименование машинного. Анализируя труд в эпоху развитого капиталистического общества, К. Маркс выявил как общие, присущие всем историческим формам, черты труда, так и особенные, присущие лишь данному периоду исторического развития трудовой деятельности.
К сожалению, в последующей марксистской литературе эти общие и особенные черты труда нередко приравнивались друг к другу, что, например, проявилось в отождествлении труда вообще и абстрактного труда, конкретного и частичного труда, физического и материального труда. Но даже, если советские авторы и предпринимали попытки разведения общего и особенного в этапах развития труда, основное их внимание было сосредоточено преимущественно на определении труда вообще, каким он является в любую историческую эпоху. Другими словами, акцент делался на абстрактно-всеобщем понимании труда, на понимании общего в труде, безотносительно к его особенным формам.
Такая ситуация во многом была естественной, поскольку абстрактно-всеобщий диалектический план анализа социальной действительности был прописан К. Марксом не в полном объеме. Очень подробно К. Маркс описал труд в отношении к явлениям экономической жизни, что было продемонстрировано в «Капитале», но лишь в некоторых общих чертах в отношении к 62
явлениям социальной, политической, духовной сфер. Задачей последователей родоначальника нового материализма стало построение абстрактно-всеобщих трудовых концепций политики и права, семейных и этнических отношений, нравственного, религиозного, эстетического сознания, разработка материалистической социальной гносеологии, материалистической философии истории и т.д. Для решения такого рода задач абстрактновсеобщего материалистического понимания труда до известной меры было достаточно, поскольку важно было в первую очередь доказать, что труд порождает все явления общественной жизни вообще, доказательство же производства трудом особенных состояний политики, права, морали, религии и т.д. отходило при этом на второй план. Однако когда внимание отечественной гуманитарной науки переключилось с анализа общих характеристик отдельных сфер общественной жизни и форм общественного сознания на анализ их особенных и уникальных проявлений, абстрактного понимания труда как источника человеческого существования во всем его многообразии стало явно недостаточно. Как следствие частные специалисты стали искать основания особенных и уникальных состояний той или иной сферы общества в самих этих сферах, а особенные и уникальные, ситуативные состояния материальной жизни стали интерпретировать как продукт обратного действия на нее прочих сфер. С этого момента абстрактно-всеобщий исторический материализм начал вырождаться, приобретая некую «неклассическую» форму марксизма.
Неклассические материалистические трактовки труда в советской науке возникали главным образом при описании труда в отношении ко всему многообразию сторон социальной действительности, в первую очередь в отношении к производственным связям и средствам производства. Описывая труд определенную историческую эпоху, советские авторы характеризовали его не столько по его собственному состоянию, сколько по состоянию предмета и средств труда, производственных отношений (в первую очередь собственности), социальной (классовой и этнической) организации, организации управления (в т.ч. политического), общественного сознания, которые являются его продуктом и выражением.
Безусловно, средства производства и производственные отношения, на что постоянно укалывал в своих работах К. Маркс, как, впрочем, социальная, политическая и духовная организация общества, способности и потребности, свобода и ответственность человека, состояние человеческой биологии, являются показателем уровня и характера развития общества в целом и труда как источника этого развития. Однако они позволяют прояснить качественную определенность той или иной исторической формы труда только при условии, что и сама данная историческая форма труда как такового получает свое конкретно-историческое определение. В противном случае возникают методологические противоречия в анализе труда и этапов его развития.
Во второй половине XX в. в советской науке сложилась ситуация, когда в труде как таковом фиксировались преимущественно его общие характеристики, а вот в его проявлениях (технике, предметах труда, производственных отношениях, интеллектуальном обеспечении и т.д.) как общие, так и особенные их черты. В результате получалось, что труд выступал как общее в отношении к его результатам как общему и особенному. Особенные характеристики самого труда, которые по логике и должны быть основанием особенных характеристик всех его проявлений, оказались, по сути, вне поля исследования подавляющего большинства советских авторов. В результате понимание труда все больше приобретало черты внеисторического в том смысле, что особенное в самом труде оказалось сведено к общему в нем, и лишь на уровне проявлений труда общее и особенное его содержание обретало вид диалектического отношения. Понятие труда стало сродни античному понятию первове-щества, которое будучи внутренне тождественным себе (и потому неизменным) оказывалось основанием внешне различенного и изменчивого.
Особенностью неклассического материалистического понимания труда являлось то, что, рассматривая его развитие вообще, оно стремилось выявить его особенное историческое содержание только путем описания особенных состояний его проявлений. Такой путь описания труда имел свои негативные последствия, поскольку порождал возможность сведения труда к его выражениям, в первую очередь к технике и производственным отношениям. «Техницистские» определения труда, сводящие 64
труд к инструментальным и технико-организационным действиям [6], а также «реляционные» определения труда, абсолютизирующие зависимость его развития от движения производственных отношений [7, с. 24; 8, с. 115–116], игнорирующие, таким образом, человеческую сущность труда стали весьма распространенными в советской литературе.
Еще ярче упущение из виду человеческой сущности труда проявилось в советских концепциях научно-технической революции. Многие авторы пришли к выводу, что в эпоху НТР резко падает производственная значимость физического труда и возрастает значение научного, сложного духовного по содержанию труда [6, 9]. Такого рода трактовка труда в современную эпоху отчетливо свидетельствует о редуцировании его сущности к его физиологическим основам и духовному обеспечению, что, по сути, восстанавливает типичную для старой (классической) философии и политэкономии абстракцию труда как духовно-природной деятельности. При таком подходе получалось, что машинный труд в материальном плане – это не более чем физический труд, т.е. физиологические затраты труда в их производственном значении, а автоматизированный, или по-другому всеобщий труд – это сложная интеллектуальная деятельность. Само же развитие труда есть постепенный переход от природной (физиологической) деятельности к научной (духовной), или процесс его дематериализации. Сведение материального содержания труда к его физиологическим основам, в конечном счете, содержало в себе вывод о постепенной утрате трудом (и человеком, который развивается посредством труда) своей особой материальной сущности и стремление представить сознание как субстанциальное свойство человека. Другими словами, такая трактовка труда в эпоху НТР напрямую шла в разрез с материалистическим пониманием истории, хотя вроде бы она и возникла на его основе.
Примечательно, что К. Маркс, в наметках определяя сущность всеобщего (научного) труда, указывал на его социальную материальную, человеческую природу. Для К. Маркса всеобщий труд – это, прежде всего, сложный материальный труд. Это труд ассоциированных рабочих, планомерный обобществленный, общественно-комбинированный труд, при котором все индивидуальные рабочие силы выступают как одна общественная ра- бочая сила [10, с. 76–78, 94; 11, с. 253–254, 431]. Это труд, оснащенный сложной системой машин, или автоматизированный труд, с общественной (общественно-индивидуальной) собственностью на все средства производства. Это высоко производительный труд, высвобождающий рабочее время для всестороннего, в т.ч. интеллектуального, нравственного и эстетического развития человека [10, с. 590]. Согласно К. Марксу «всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение», который «обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников» [11, с. 98]. Онаучивание является важной характеристикой всеобщего труда, однако всеобщий труд только к данному процессу не сводится. Он становится научным, высоко интеллектуально оснащенным только потому, что является высоко производительным, сложным материальным трудом. Высокая производительность всеобщего труда приводит и к тому, что рутинные операции, сопровождающие производственную деятельность человека, передаются системе машин, человек же в таких условиях сосредотачивается на наиболее сложных, творческих видах материальной деятельности [10, с. 360]. В данной ситуации (и только поэтому) «могут быть поставлены на службу производства колоссальные силы природы, и процесс производства может быть превращен в технологическое приложение науки» [10, с. 592].
Всеобщий труд, согласно К. Марксу, таким образом, – это процесс всестороннего развития человека как социального материального, производящего свою жизнь посредством преобразования природы, существа. Это одновременно сложная духовная и материальная деятельность человека. Именно этот сущностный момент труда, по сути, и был упущен из виду многими советскими авторами, что и привело к редукционистским в духе старой философии и ее неклассического направления трактовкам труда, породившим кризис материалистического понимания истории в целом, труда в частности.
Впрочем, в советской философской литературе предпринимались попытки определения исторических форм труда через его «внутреннее» состояние, а не только в отношении к его проявлениям. Наибольшее развитие получила идея К. Маркса о движении труда как последовательной эмансипации его функций и передаче их техническим средствам [12; 13, с. 39–40; 14, с. 52–55]. Характеризуя развитие техники как процесс опредмечивания труда, человеческой сущности в целом, К.Маркс выделил несколько функций труда, которые постепенно реализуются в средствах труда: двигательную (энергетическую), передаточную, рабочую (исполнительную), управления, регулирования и контроля [10, с. 346–360]. На этом основании и самим Марксом и его отечественными последователями был сделан вывод, что исторические формы труда и техники различаются характером и мерой эмансипации функций труда.
Некоторые отечественные авторы решили, что при ручном труде все функции осуществляются человеком, при машинном происходит передача двигательной, исполнительной и передаточной функций машине, при автоматизированном труде уже системе машин (автомату) передаются также функции контроля, регулирования и управления [12; 13, с. 39–40]. Такое однозначное решение, впрочем, вызывает некоторое недоумение. Если все функции труда передаются с течением времени технике, то что, собственно, тогда остается в самом труде? Не происходит ли его дематериализация и превращение в исключительно духовную деятельность?
Сам К. Маркс, впрочем, специально оговаривал, что технике могут быть переданы только рутинные функции труда. Если же непосредственно обратиться к тексту «Капитала» в том его разделе, где была высказана идея о развитии труда и техники как эмансипации функций труда, то можно обнаружить, что К. Маркс был еще более осторожен в оценках этой эмансипации. Он писал, к примеру, что «в качестве машины средство труда приобретает такую материальную форму существования, которая обусловливает замену человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных приемов – сознательным применением естествознания» [10, с. 360]. При таком подходе становится очевидным, что труд не лишается не только своего материального содержания как процесс присоединения сил природы к материальным силам человека, но и своих объективных функций. Точно такую же оговорку о передаче технике лишь рутинных функций труда сделали и некоторые отечественные авторы [14, с. 52–55].
Тем не менее, сама идея обособления функций труда как причины и показателя его развития в ее буквальном понимании вызывает возражение в первую очередь потому, что она явно обнаруживает следы абстрактно-всеобщего толкования трудового процесса. Труд обладает перечисленными функциями всегда, они характеризуют его вообще, на каком бы этапе развития он не находился. Представление об эмансипации функций как развитии труда слишком уж напоминает типичные для классической философии и ее неклассического направления рассуждения об общественном процессе. В классической и неклассической философии развитие всегда трактовалось как движение не от простого к сложному, а от одной стороны действительности к другой (от общего к особенному и единичному, от природы к духу, от невежества к просвещению и т.д.), в результате чего каждая из сторон понималась внеисторически и оказывалась, по сути, абсолютно противопоставленной прочим сторонам, в связи с чем никак не получалось непротиворечиво объяснить переход от одного этапа к другому.
Руководствуясь исходными положениями материалистического понимания истории, К. Маркс, видимо, не случайно сделал оговорку, что технике (как преобразованной природе) передаются лишь рутинные (т.е. простые, утратившие для человека приоритетное производственное значение) приемы деятельности, сложные же приемы остаются за человеком. Эта оговорка недвусмысленно намекает на то, что функции труда развиваются, а если уж и происходит их эмансипация, то, должно быть, эмансипируются сразу все функции в их конкретно-исторической форме.
К. Маркс в «Капитале», впрочем, выделяет и более глубокие, чем эмансипация трудовых функций, основания для анализа этапов развития и труда, и техники. Рассуждая, к примеру, о причинах появления машины, он отметил, что количество инструментов, которыми человек может действовать одновременно, ограничено количеством его естественных производственных инструментов, количеством органов его тела. Машина же, которая представляет собой совокупность многих однообразных или разнообразных инструментов, позволяет человеку преодо- леть эти естественные преграды. Она заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, рабочим, который разом оперирует множеством орудий, приводимых в действие одной двигательной силой, какова бы ни была форма этой силы [10, с. 350–351].
В данных рассуждениях Маркса в специфическом виде проявилось его общее понимание движения человеческой сущности, которое реализуется и в труде, и в создаваемых и используемых им средствах труда. История, согласно К. Марксу, – это процесс углубления человека в его универсальную, родовую и индивидуальную социальную материальную сущность, движение к их тождеству. Исторические формы труда, при таком видении общественного развития, различаются уровнем универсализации и специализации, обобщения и индивидуализации трудовых действий. Трудовые навыки, усложняясь, интегрируются. Другими словами, историческая форма труда – это процесс производства определенного тождества универсальной, родовой и индивидуальной человеческой сущности.
Однако для того, чтобы труд мог произвести тождество универсальной, родовой и индивидуальной человеческой сущности определенного типа, он должен создать и соответствующие данному тождеству, данной исторически определенной сущности человека средства труда. Выступая в качестве средства производства человеческой сущности и будучи продуктом данного производства, техника, таким образом, должна нести на себе отпечаток этой сущности, быть ее предметным выражением и утверждением. Процессы дифференциации и интеграции, обобщения и индивидуализации, происходящие в труде, должны осуществляться и в техническом движении.
К сожалению, советские авторы в основной своей массе не пошли дальше абстрактно-всеобщих диалектических интерпретаций общественного развития как процесса производства и выражения универсальной, родовой и индивидуальной человеческой сущности. Конкретно-всеобщий диалектический уровень Марксовой теории, блестяще продемонстрированный в «Капитале» и предварительных к нему работах, оказался слабо и фрагментарно освоенным в советской литературе. В результате сложилась ситуация своеобразного «теоретического паралле- лизма», при которой, с одной стороны, в общем советские авторы исходили из понимания всех явлений общественной жизни как продукта труда и производимой им человеческой сущности, а с другой стороны, стремились найти основания особенных общественных проявлений не в труде, а в них самих. Только в последние десятилетия некоторые отечественные авторы, ощущая кризисное состояние материалистической теории вновь обратились к анализу диалектики универсальной, родовой и индивидуальной человеческой сущности, реализующейся в труде и его исторических формах, в обществе и его исторических формах (формациях) [14, 15, 16].
Список литературы Эволюция материалистического понимания труда (классический и советский марксизм)
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. Т. 1. М.: Эконов-Ключ, 1993. 475 с.
- Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 382-413.
- Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 219368.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Политиздат, 1956. С. 517-642.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 7-544.
- Чангли И.И. Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования. М.: Наука, 1973. 588 с.
- Материалы совещания по проблемам исторического материализма // Вопросы философии. 1982. № 6. С. 19-30.
- Материалы совещания по проблемам исторического материализма // Вопросы философии. 1982. № 7. С. 113-120.
- Межуев В.М. Диалектика взаимодействия материального и духовного производства // Производство как общественный процесс. М.: Мысль, 1986. 349 с.
- Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат, 1987. Т. 7. 900 с.
- Маркс К. Капитал. Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: в 9 т. М.: Политиздат, 1988. Т. 9, ч. 1. 1078 с.
- Товмасян С. С. Философские проблемы труда и техники. М: Мысль, 1972. 279 с.
- ВолковГ.Н. Эра роботов или эра человека? М: Политиздат, 1965. 159 с.
- Орлов В.В., Васильева Т.С. Труд и социализм. Пермь: ПГУ, 1991. 203 с.
- ОрловВ.В., Васильева Т.С. Человек, ускорение, научно-технический прогресс. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1989. 192 с.
- ОрловВ.В., Васильева Т.С. Философия экономики. Пермь: ПГУ, 2005. 267 с.