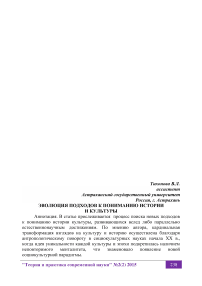Эволюция подходов к пониманию истории и культуры
Автор: Тихонова В.Л.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается процесс поиска новых подходов к пониманию истории культуры, развивающихся вслед либо параллельно естественнонаучным достижениям. По мнению автора, кардинальная трансформация взглядов на культуру и историю осуществлена благодаря антропологическому повороту в социокультурных науках начала XX в., когда идея уникальности каждой культуры и эпохи подкрепилась наличием неповторимого менталитета, что знаменовало появление новой социокультурной парадигмы.
История, культура, хронотоп, ментальность, парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/140266410
IDR: 140266410
Текст научной статьи Эволюция подходов к пониманию истории и культуры
В наши дни особое значение приобретает проблема множественности и единства культур. Здесь принимается во внимание как их самобытность, так и наличие тех стадий развития, через которые проходит человечество в целом. Такая позиция сформировалась в процессе исторического развития гуманитарных наук, методы которых заимствовались из естественнонаучной сферы.
На наш взгляд кардинальная трансформация взглядов на историю и культуру осуществлена благодаря антропологическому повороту в социокультурных науках начала XX в., когда уникальность каждой культуры и эпохи подкрепились наличием неповторимого менталитета. В связи с этим автора статьи интересует эволюция идей в социокультурной сфере, приведшая к появлению новой парадигмы в понимании истории и культуры.
Одну из первых концепций, отражающих влияние человеческого миропонимания на культурную особенность разных эпох предложил Дж. Вико (XVIII в.). При этом идеи итальянского мыслителя выходили за пределы общепринятого в XVIII веке взгляда на историю и культуру, отражающего механико-атомистические и математические идеалы естественнонаучной сферы, которые проникли в социогуманитарные науки с XVII в..
На фоне классической парадигмы теория Дж. Вико представлялась неординарной, так как отходила от общепринятого мнения, что основной задачей любого ученого является объяснение природной действительности. Для итальянского мыслителя, напротив, первостепенную важность представляет познание мира культуры. В связи с чем можно сказать, что Вико уже в XVIII веке провел границу между науками, изучающими природу, созданную Богом, и науками, изучающими мир, созданный человеком. Кроме того, он противопоставил сухому рационалистическому идеалу эпохи Просвещения – Разуму человеческую мудрость, вмещающую единство души, сознания, воли и интеллекта.
Предметом исследования Вико является мир наций, представляющий смену эпох со своим неповторимым миропониманием – век богов, век героев и век людей, циклично возвращающихся на смену друг другу. При этом поступательному движению наций свойственно «единообразное постоянство этого движения вперед во всех многочисленных и разнообразных обычаях» [1, c. 377]., что отражает свойственное эпохи Вико представление о жесткой детерминированности всех явлений.
Учение Вико, хотя и содержит принципы механицизма, все же во многом отходит от общей парадигмы эпохи, что явилось причиной скептического отношения в научных кругах к идеям Вико вплоть до XX века.
Зато с середины XIX в. становится популярной концепция эволюционизма, базирующаяся на основных постулатах классического рационализма со свойственным ему принципом натурализма, согласно которому законы как природы, так и общества имеют необходимый и универсальный характер, что упрощает исторические факты и процессы, подводя их к историческому детерминизму.
Но несмотря на популярность эволюционистского подхода в объяснении культурных явлений, в первой половине XX века он все же исчерпал себя, так как не учитывал противоречивый и сложный характер общественных процессов, этнической специфики, исторических и географических факторов, а так же особенностей мышления и восприятия мира людьми каждой самобытной культуры.
В связи с этим, эволюционизм не мог объяснить многие явления, потрясшие человеческий разум - революции, подрывающие веру в Разум (провозглашенный просвещенцами средством улучшения жизни человека), изобретение средств массового уничтожения, мировые войны, экологический кризис и т.д., что привело к краху идеи прогрессивного развития человечества. В результате классические ценности начинают пересматриваться.
Большое влияние на новые представления в социокультурном знании оказала теория относительности Эйнштейна, в основе которой лежит представление о времени, находящемся в тесной взаимосвязи с пространством. Эта идея приведет в дальнейшем к появлению нового термина – хронотопx, используемого не только в естествознании, но и в гуманитарных науках. Время становится относительной величиной, теряя абсолютный характер. Эта позиция открыла новые горизонты исследования в гуманитарной сфере, отказавшись от требований максимальной объективности в пользу субъективного суждения исследователя, чьи установки сознания и уровень образования неизбежно отражаются в анализируемых объектах. Это дает возможность отразить многогранную человеческую природу, в которой доминирует психологическая сторона, включающая как осознанную, так и бессознательную сферы.
Открытие теории относительности и смены научной парадигмы, учитывающей субъективный фактор в научных исследованиях, а также накопленный обширный материал по этнографии, археологии, искусствоведения, филологии и др. наук приводит к пересмотру взглядов на развитие культур появлением циклической концепции, основным теоретиком которого считается О. Шпенглер, основная идея которого состоит в существовании развивающихся независимо друг от друга культур, что полагает несовпадение их во времени и пространстве. Важной характеристикой культур является их равноценность.
При этом особое значение обретает неизменный Локус, формирующий формы идентификации. Перемещение идет только во времени. Ритм культуры аналогичен естественным организмам. Движение по циклу всегда связано с регрессом и потому будущее в этой модели катастрофично: только через разрушение возможен переход на качественно новый виток развития.
Мир культуры находится во власти судьбы, что отличает его от мира природы, где царят непреложные законы. Судьба каждой культуры разворачивается в пространстве различных территорий. При этом культуры имеют свою «собственную форму, собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, волю, чувства, собственную смерть» [4, c.151]. Соответственно, для восстановления исторической картины развития культуры строгие научные методы и доказательства становятся неприемлемыми. О. Шпенглер использует метод освоения культуры посредством проникновения в ее смыслы, символы и значения, которые названы им физиогномическими. Для постижения этого содержания культуры необходимо применить интуицию, проницательность и концентрацию чувств, вскрывая внутреннее строение культуры - ее морфологию.
Все элементы цикла являются равно значимыми, поэтому пространство и время находятся во взаимосвязи и представляют хронотоп. Любая культура связана с конкретным пространством в конкретном временном промежутке.
С одной стороны, душа культуры связана с человеческим мирочувствованием, что близко понятию ментальности, с другой - это мироощущение находится во взаимосвязи с символами - элитарными достижениями культуры.
Заслуга представителей концепции циклического развития культур (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби и др.) состоит в отказе от понимания исторического процесса как единого эволюционного потока, охватывающего все страны и народы мира и утверждение уникальности каждой культуры и цивилизации, которой свойствен свой неповторимый этос – душа культуры. Эта идея оказала большое влияние на дальнейшее развитие гуманитарного знания, но все же, она не могла внести ясность в происходящие в мире события, схематичностью и абстрактностью описанных культурных явлений. Ведь как многогранен человек и его мироощущения, также многогранна и культура. Поэтому циклическая концепция не объясняла полной картины происходящих событий повседневной действительности (в том числе связанными с войнами, революциями, колониальной политикой и т.д.).
Кроме того, история, представленная суммой изолированных культурных организмов, перечеркивает существование общеисторических законов, отражающих идею единства человечества, где все культуры находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга, что доказывается историческим опытом.
Поиск новых подходов, способных дать объяснение всех сторон действительности человеческого бытия в целостности приводит человеческую мысль к более широкому исследовательскому плацдарму – культуре, но не столько в русле философии, сколько с точки зрения антропологии – науки о человеке, творце культуры. Ведь именно представитель антропологии Лесли Уайт в 40-е г. XX века предлагает создать науку о культуре - культурологию. Кроме того, именно в рамках антропологии появляется определение культуры как второй природы, созданной человеком (подход Б. Малиновского; «Научная теория культуры», 1944), охватывающей всю человеческую деятельность, даже не всегда отрефлексированную и осознанную.
Большое влияние на этнографические и антропологические исследования оказал французский этнолог Л. Леви-Брюль своими трудами «Ментальные функции в первобытных обществах» (Les fonctions mentales dans les societes inferieures, 1912) и «Первобытная ментальность» (La mentalite primitive, 1922), в которых он говорит о зависимости коллективных представлений и соответственно мышления от социальной структуры общества. Другими словами, Леви-Брюль придерживался позиции, что каждому общественному типу соответствует своя ментальностьxi. Такой подход кардинально отличался от идей эволюционистов (Э. Тайлора, Дж. Фрэзера и др.), исходивших из парадигмы классической науки об универсальности и неизменности человеческого мышления и психики.
Концепция Л. Леви-Брюля оказала влияние на дальнейшие эпистемологические и психологические исследования, в частности, на взгляды французских историков школы «Анналов» для которых с 1929 г. понятие ментальности становится основополагающим для французских историков медиевистов М. Блока и Л. Февра, а впоследствии для многих историков, сплотившихся вокруг журнала «Анналы экономической и социальной истории». Медиевисты М. Блок и Л. Февр решают обновить историческую науку, опираясь на основной принцип Эйнштейна, базирующийся на идее отсутствия независимой от субъекта наблюдения абсолютной системы отсчета физической реальности. Признание того, что разум не способен к объективному познанию окружающего мира привело к отказу от существования причинно-следственной закономерности.
Именно «бесконечно возможное» сделалось насущной необходимостью для объяснения происходящих в обществе событий, в котором коллективные представления играли доминирующую роль, так как историю творит человек со свойственным ему определенным миропониманием, объяснить которое при помощи строгих естественнонаучных законов и абстрактных схем невозможно.
Основным объектом исследования французские медиевисты сделали «живого» чувствующего и мыслящего человека, применив понятие ментальности к внутреннему миру людей разных эпох. Ведь человеческий фактор оказывает огромное влияние на глобальные и локальные процессы. Такой подход предполагает изучение человека человеком, что принципиально отличает гуманитарные исследования от естественнонаучных отсутствием субъект-объектных отношений, приводящих к необходимости вступать в диалог с людьми прошедших эпох. Но этот «диалог невозможен вне наук о культуре …. вовлекающий в историческое исследование систему ценностей историка» [2, c.15], учитывая при этом особенности человеческого мировосприятия изучаемой культуры. Каждая культура, по представлению основоположников «Анналов» М. Блока и Л. Февра, существующая в определенном пространстве и времени, имеет свою неповторимую ментальную среду, включающую четко не сформулированные и полурефлексивные привычки сознания и мировидения.
Понятие «ментальность» вмещает большой объем разноплановых аспектов человеческой природы, что является причиной отсутствия единого мнения, касающегося ее дефиниции. Ментальность многоаспектна и поэтому до сих пор не является четко сформулированной и логически выстроенной научной категорией. Она отражает и склад ума, и способы восприятия мира, и социально-психологические установки людей определенной социокультурной среды, и манеру чувствовать и думать. В разное время разные авторы понимали под ментальностью и коллективное бессознательное, и дорефлективный слой мышления, и противоречивую целостность картины мира, и социокультурные автоматизмы сознания индивидов и групп и т.д.xii
Сама культура полифункциональна и многозначна, что требует выработки разных исследовательских установок и познавательных задач. Отпечатки ментальности накладываются на всю человеческую деятельность, поэтому она является основой культуры, отражающей ее неотрефлексированную и полурефлексивную сторону. Неопределенность термина ментальность открыло историкам необъятный исследовательский плацдарм для обращения к новым темам и методам познания.
Таким образом, идея понимания истории и культуры, базирующаяся на неповторимой ментальности определенной эпохи, прошла долгий путь от первых концептуально изложенных идей Вико (XVIII в.) до научных разработок в этой сфере историков «Анналов» (XX в.). В промежутке между XVIII и XX вв. создавались теории, синтез идей которых лег в основу научных представлений анналистов, объединяющих точки зрения приверженцев эволюционистской и циклической концепций. Новая социокультурная парадигма XX в. явилась определенным антропологическим поворотом в гуманитарных исследованиях. В рамках названной парадигмы особое значение приобретают как локус, так и время, находящиеся во взаимосвязи и представляющие собой хронотоп. Каждый отдельный хронотоп имеет уникальные характеристики, связанные с человеческим повседневным мировосприятием, т.е. с ментальной средой, отражающей глубинную суть истории и культуры.
Список литературы Эволюция подходов к пониманию истории и культуры
- Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.: ИСА, 1994. 656 с.
- Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов»: М.: Нидрик, 1993. 328 с.
- Тайлор Э. Первобытная культура. М.: Издательство политической литературы, 1989. 573 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Соч. в 2-х т. Новосибирск, Наука. 1993. Т.2. 592 с