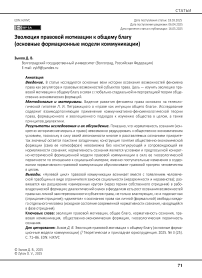Эволюция правовой мотивации к общему благу (основные формационные модели коммуникации)
Автор: Зыков Д.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье исследуются основные вехи истории осознания возможностей феномена права как регулятора и правовых возможностей субъектов права. Цель — изучить эволюцию правовой мотивации к общему благу в связи с глобально-стадиальной интерпретацией теории общественно-экономических формаций. Методология и материалы. Видение развития феномена права основано на телеологической гипотезе Л. И. Петражицкого о «праве как интуиции общего блага». Исследование содержит взаимодополняющее применение коммуникативно-феноменологической теории права, формационного и эволюционного подходов к изучению общества в целом, а также принципов диалектики. Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что нормативность сознания (конкретно-исторические мораль и право) невозможно редуцировать к общественно-экономическим условиям, поскольку в силу своей автономности многое в расставляемых сознанием приоритетах значений остается поистине загадочным; конструкция понятия общественно-экономической формации (сама ее «атмосфера») невозможна без конституирующей и сопровождающей ее нормативности сознания; нормативность сознания является условием и предпосылкой конкретно-исторической формационной модели правовой коммуникации в силу ее гносеологической первичности по отношению к социальной материи; именно поступательные изменения в содержании нормативности правовой коммуникации обусловливают правовой прогресс человечества в целом. Выводы. «Нулевой цикл» правовой коммуникации возникает вместе с появлением человеческой праобщины в виде ограничителя законов социальности (иерархичности и неравенства); развивается как расширение «замиренных кругов» (через тернии собственного отрицания) в рабовладельческой формации; диалектический скачок в феодализм есть рост осознания возможностей права как личной заинтересованности субъектов права, не только властвующих, но и подвластных (отрицание отрицания); «движется» к осознанию права как личной (формальной) свободы каждого отдельного человека (исходное состояние современной нормативности сознания, находящейся в фазе отрицания).
Эволюция правовой мотивации, общее благо, нормативность сознания, правовая коммуникация, общественно-экономическая формация, гносеологическая первичность сознания
Короткий адрес: https://sciup.org/14133895
IDR: 14133895
Текст научной статьи Эволюция правовой мотивации к общему благу (основные формационные модели коммуникации)
Онтологически человеческий мозг как часть биофизического мира предшествует нашему сознанию, и последнее едва ли может существовать где-то вне мира без своего материального носителя. Если принимать во внимание, что наши материальные тела разделены в пространстве, а психические (идеальные) процессы имеют внепространственную форму, взаимосвязывая индивидов и обусловливая возможность общества, это не отменяет объективность материального носителя по отношению к сознанию, но открывает другой «горизонт событий» — существование субъективной и интерсубъективной ре- альности, гносеологически предшествующей материальному миру. Иными словами: каково содержание сознания (как совокупности знания), такова и объективная реальность1.
Представляет интерес изучение нормативности сознания как социальной воли в рамках динамики коммуникативно-мотивационного континуума исторически сменяющихся общественно-экономических формаций. «Волевая власть существует как в пределах общества в целом, так и в отдельных его ячейках, например, в семье. Но из всех видов волевой власти для общей теории общества и истории важен только один... И такого рода властная воля выражается в нормах поведения, соблюдение которых обязательно для всех носителей подвластных воль. Поэтому такого рода властную волю называют в литературе нормативным сознанием … Главными формами такой социальной воли являются мораль и право » (курсив наш. — Д. З. )2. «…идея Петражицкого об императивно-атрибутивной природе права непосредственно выводит на идею коммуникации как его (права) определяющего признака. Л. Петражицкий не только фактически признает возможность общего понимания, но и трактует поведение другого человека как текст, признавая, что этот текст обладает общим, то есть „объективным“ (фактически интерсубъективным) смыслом. Но это возможно только в том случае, если субъективный смысловой контекст соответствует объективному смысловому контексту, иными словами, возникает общий смысл текста и вытекающего из него взаимодействия. Нормативность, таким образом, выступает коммуникативным условием существования права»3.
Нормативность сознания как интегральный элемент правовой коммуникации (ее среда), будучи обусловленной ограниченностью исторического знания в рамках той или иной общественно-экономической формации4, претерпела соответствующую их рамкам и темпу эволюцию. Это, в частности, проявилось в эволюции этических представлений человечества. Л. И. Петражицкий выдвинул телеологическую гипотезу, согласно которой целью социокультурной эволюции права является достижение общего блага. Одна из главных тем его размышлений «…культура, которую он понимал как эволюционный механизм адаптации мотивации и поведения человека к общему благу. <…> превосходящая эгоизм индивидов культурная интуиция общего блага загадочным образом оказывается способной регулировать человеческое поведение в сфере не только права, но и политики, науки, экономики и др.»5
Методология и материалы
Видение развития феномена права основано на телеологической гипотезе Л. И. Петражицкого о «праве как интуиции общего блага». Исследование содержит взаимодополняющее применение коммуникативно-феноменологической теории права, формационного и эволюционного подходов к изучению общества в целом, а также принципов диалектики.
Результаты исследования и их обсуждение
Первобытно-общинная «правовая» коммуникация
Согласно общему мнению, исходным состоянием нормативности сознания первобытных людей было архаическое право («протоправо», «мононормы»), построенное на обычной обязательности правил поведения, складывающейся в результате длительной практики многократного применения в форме поведенческой традиции (обыкновения) и вошедшей в привычку, поскольку обеспечивалось самим фактом своего существования. Однако это несколько противоречит социальному закону, что всякое длительно существующее общество подразделяется на управляющих и управляемых. Первобытная община, как представляется, не исключение. И если не брать во внимание гипотетический период существования людей в форме стада, а совершить вполне законный скачок к родоплеменной организации первых людей, то сложно представить себе отсутствие в их обществах иерархии и полное равенство прав и обязанностей, в том числе в распределении благ. К примеру, едва ли взрослые ходили всегда сытыми, а дети голодными, или дети были в большем почете, чем взрослые, и могли наказывать взрослых за провинности и т. п. Учитывая скудные и противоречивые данные о доисторических формах общежития и их правилах, следует скорее принять изначальную иерархичность любой формы социальности, что позволило бы предполагать в таких структурах взаимодействий первобытных индивидов начало становления правовой коммуникации . Думается, что исходное состояние нормативности сознания совмещало в себе необходимые зачатки разделения на правящих и управляемых, но в более сдержанной форме, скажем — матриархата, патриархата, совета старейшин, вождизма, и без откровенного налета алчности в присвоении себе привилегий и распределении общественного продукта в пользу своего эго и эго своих родственников, как в период последующего разложения первобытно-общинного строя, сопровождающегося стремлением к личному завладению и «официальному» возникновению частной собственности. Это утверждение в силу своей «мягкой» формы примиримо с предположением о равенстве прав и обязанностей членов одного рода-племени, его построении на началах элементарной справедливости правил общежития, поскольку иначе невозможно объяснить сам факт выживания человечества и его переход к более высоким ступеням развития.
Необычен источник обычной общеобязательности первых людей6. Объяснение Г. Кельзена выглядит наиболее реалистичным. Учитывая предполагаемый анимизм в своем отношении к внешнему миру древних людей, логичным выглядит их социально-нормативное истолкование природы по принципу вменения и принципу воздаяния, а не согласно принципу причинности. Анимизм означал одушевление предметов и явлений внешнего мира, их персонификацию по подобию человека, наделение их качествами характера — иными словами, предположение, что за предметами и явлениями стоят могущественные духи, с которыми возможно и необходимо общение. Такая система представлений основана на убеждении, что существует «надчеловеческая властная инстанция», стоящая за формированием обычаев. Реальные причины, стоящие за благоприятными (хороший урожай, дождь во время засухи, спасение от врагов) или неблагоприятными (болезнь, неудачная охота, военное поражение и т. п.) событиями, «вменялись» (приписывались) правомерному или противоправному поведению членов группы по отношению к духам как властной инстанции и приводили, соответственно, к воздаянию в виде поощрения группы или ее наказания. Они верили, что духи посылают им в награду благоденствие, а в наказание — кару и испытания, в зависимости от поведения. Следовательно, нормативности первобытного сознания был чужд современный дуализм природы как детерминированного порядка и общества как норматив- ного порядка. В их сознании не было разделения на общество и природу, было только общество как нормативный порядок «мистической сопричастности» (Д. Фрэзер) со всем происходящим в природе. Дальнейшее интеллектуальное развитие шло по пути освобождения от анимизма, «расколдовывания мира» (М. Вебер), усиления дуализма восприятия, вплоть до создания понятия природы, противопоставления ей и ее преобразования. Средством такого освобождения стал принцип причинности7.
Экономической причиной разложения первобытно-общинного строя стал постепенный переход от присваивающего хозяйства к производящему. Производство материальной культуры ознаменовалось рождением феномена «человек» и началом создания «второй природы», искусственной ниши в мироустройстве, социальной материи преобразования окружающего мира8. Социальной причиной такого диалектического скачка в развитии стало появление частной (личной) собственности и семьи9. Но самое интересное, что по неизвестным психологическим причинам первые люди («Адамы» и «Евы») решили придать значение 10 совместному проживанию в «нуклеарной»11 семье дуально-родового брака, рождению, защите и воспитанию потомства12. Гораздо позднее по известным причинам13 люди уже решили предпочесть родоплеменным связям соседские14.
Немаловажным является ответ на вопрос, почему из естественного состояния, характеризуемого так или иначе примитивным равенством прав и обязанностей человеческих особей одной общины, где каждый получал ему причитающееся просто за сам факт своего существования как в нормальной семье, был совершен переход к рабству, беспощадной эксплуатации себе подобных как форме общественного устройства, просуществовавшей тысячи лет. Почему, казалось бы, более «совершенная» психика вышедшего из яслей человечества была обременена таким недугом. Возможно, удовлетворяющим ответом может стать наша метафора присутствия в человеческой психике следов генетики хищничества, проявившихся в первую очередь как наиболее примитивная, неуемная и ненасытная ее часть. Разлагающееся первобытное общество состояло не просто из родоплеменных групп, но из множества разных родоплеменных групп , а также бродячих или полуоседлых охотников, рыболовов, собирателей, просто «охотников за головами» и банд грабителей, воинственно («агонистическое поведение») и захватнически («агрессивное поведение») настроенных друг к другу и к мирным общинам15.
Помимо борьбы за извечные ценности в виде территории и ресурсов, важной причиной конфликтов между племенами, возможно, был страх перед «их» непохожестью на «нас» , а значит — непредсказуемостью и опасностью их намерений. Мы делим людей на «своих» и «чужих», и чужие невольно вызывают тревогу, особенно если представить всю ужасающую суровость условий тех времен и «по-луживотную» психику наших предков. Речь идет не о каннибализме (хотя это не исключается), а скорее о метафорическом подчеркивании «видового» различия и соответствующего скотского отношения захватчиков-эксплуататоров к угнетенным эксплуатируемым подвластным (порабощенным), поскольку они — «другие». Человек — самый опасный вид на Земле, но при этом мы сильнее всех склонны к альтруизму (в те времена склонны только к альтруизму по отношению к «своим»).
«Удивление, которым я был охвачен, увидев в первый раз кучку туземцев Огненной Земли на диком, каменистом берегу, никогда не изгладится из моей памяти, потому что в эту минуту мне сразу пришла в голову мысль: вот каковы были наши предки. Эти люди были совершенно обнажены и грубо раскрашены; длинные волосы их были всклокочены, рот покрыт пеной, на лицах их выражались свирепость, удивление и недоверие. Они не знали почти никаких искусств и, подобно диким животным, жили добычей, которую могли поймать; у них не было никакого правления, и они были беспощадны к любому, кто не принадлежит к их маленькому племени. Тот, кто видел дикаря на его родине, без особо большого стыда готов будет признать, что в его жилах течет кровь какого-нибудь более скромного существа» (Ч. Дарвин)16.
По всей видимости, именно чувство племенного родства побуждало защищать «своих» и убивать или эксплуатировать «чужих». Родство в среде своих становится впоследствии основой формирования чувства родства с социальными группами, к которым принадлежишь (раса, нация, язык, армия, религия, профессия, должность, партия, по полу, по возрасту, по степени богатства и бедности, по месту постоянного жительства, по объему прав и обязанностей, по интересам, элита) и в которых собственное поведение становится равнодействующей их давления17. «Как совершалось обычно слияние групп? — Путем войн. А что такое война? — Коллективное наказание одной группы другою. Что служит ее поводом? — Ненадлежащее поведение другой группы, иначе говоря — преступное ее поведение. Это преступное поведение, выражающееся в конечном счете в том, что одна группа не исполняет того, что она должна была бы исполнять с точки зрения другой группы (не исполняет ее требований), квалифицируется как запрещенный акт и вызывает карательную реакцию, именуемую войною»18.
Очевидно, что в те далекие времена первые люди имели «в распоряжении» представления о религиозной обязательности (анимизм, тотемизм, эндоканнибализм, ордалии); обычной обязательности (эндогамия, экзогамия, промискуитет, полигамия, полиандрия, геронтократия, геронтицид, адопция, общепринятое поведение в группе); процессуальной обязательности (ритуалы, инициации, обряды); правотворческой обязательности (сходка, собрание, харизма, шаманизм, бигмены); административной обязательности (организация власти в группе, хунта, вождизм, матриархат, патриархат, совет старейшин); уголовной обязательности (табу, кровная месть, казнь); межплеменной обязательности (война и мир, увод в рабство, истребление, договоренности о зонах влияния); причинно-следственной обязательности (с началом процесса производства рост совокупностей знаний продолжился в пользу закона причинности, в том числе развития «причинности» условной, нормативной, социальной воли); личной обязательности (обещания исполнения обязательств, возврата долга), устанавливающие и обеспечивающие определенные объемы прав и обязанностей в их взаимодействии между собой, соседями и чужаками, извлекающие порядок из первобытного хаоса.
Рабовладельческая правовая коммуникация
Разложение первобытных форм общежития есть отрицание исходного состояния коммунистической нормативности сознания наиболее активными индивидами и следующими за ними социальными группами. Увеличение в процессе борьбы противоположных воль индивидов в лице менее успешных консерваторов с более успешными новаторами и носителями новой нормативности сознания за сохранение прежнего отживающего коллективизма или допущение зарождавшейся новой нормативности сознания, основанной на появлении понятий семьи и частной собственности, привело к победе последних и разложению (отрицанию) первого быта людей. Процедура движения к конечной ступени развития как отрицание существующей нормативности (отрицание отрицания) разложившегося, ушедшего в не- бытие первобытно-общинного сознания, с формированием исходного состояния новой нормативности сознания со своими качественными и количественными характеристиками, привела в итоге к рабовладельческой общественно-экономической формации. Количество переросло в качественно новый общественный строй. Данная процедура «движения нормативности сознания» также обусловлена экономическими, социальными и психологическими причинами.
Со временем завоеватели догадались о возможности эксплуатации наличного плененного населения «чужого» племени, а не его уничтожения; поэтому частью производительных сил были сделаны пленные, а ядром производственных отношений стало в том числе частное право собственности на человека-раба 19. Вероятнее всего, одной из основных проблем тех времен было не то, что всякое население общины может быть захвачено и угнано на принудительные работы в чужие «производственные организации», а то, когда это произойдет, если не дать адекватный отпор. Поэтому определяющим фактором было не менее первостепенное обеспечение не только производства, но и безопасности территорий, на которых функционируют «свои» производящие общины. Должно быть, именно из такого осознания взаимной пользы и произошло разделение труда на управляющих (вождей, жрецов и воинов) и управляемых («своего» мирного производящего населения и впоследствии «приобретенных» средств производства в виде рабов).
Экономические причины вполне объясняются фундаментальным законом убывающей предельной (приростной) производительности (доходности), согласно которому увеличение затрат будет всё менее и менее эффективным с ростом масштабов производства при прочих равных условиях20. Закон действителен, когда изменяется один или несколько факторов при неизменности остальных (например, рост производства как фактор). Основным рычагом принуждения рабов к труду был страх физической расправы. Несмотря на то что раб, по мнению рабовладельца, не совсем полноценный человек, ему всё же полагается кров, питание, одежда, орудия труда, медицинская помощь, отдых. «Говорящее орудие», как и всякое имущество, нуждается в уходе и присмотре, хотя бы минимальном, иначе затраты на него не будут окупаться уже на старте владения. Рабский труд применялся в основном в добывающем промысле и сельском хозяйстве, где было сложно быть «нечаянно» не эффективным и где закон убывающей доходности просматривается особенно рельефно. Рост количества рабов на производстве (как фактор) приводит к обременительным издержкам по администрированию их деятельности (условия содержания, защита, контроль и надзор, подавление бунтов, поиск беглых, питание, постоянные инъекции насилия охранниками или его угрозы для стимуляции продуктивности, жалование самим охранникам), что в перспективе создает эффект уменьшения отдачи капитала, а значит, делает владение рабами как средством производства неоправданным. Как известно, именно экономическая необоснованность содержания рабов в силу неподходящих климатических условий с долгими и суровыми зимами считается ключевой причиной отсутствия рабства как способа производства у восточных славян, которое ограничивалось только домашним, патриархальным способом существования отношений рабовладения.
Но в причинах разложения рабской системы производства можно выделить и психологические моменты, связанные с исторической ограниченностью нормативности сознания рабов и рабовладельцев. С одной стороны, нормативность сознания ограничивалась лишь вспышками возмущения и протеста по поводу необходимости улучшения общих условий труда и содержания и их подавления, либо предоставления уступок, но не допускала возможности понимания неразумности рабовладельческого строя в целом, устанавливающего и защищавшего подобную эксплуатацию21. С другой — в силу отсутствия или неразвитости институтов эффективной организации власти фактически древние люди уподобляли устройство общества по патриархально-матриархальному принципу или принципу вождизма.
Как и сейчас (в гораздо меньшей степени), так и тогда (в гораздо большей степени) непредвиденным последствием власти и обладания материальными благами для человеческой психики оказывается существенное повышение самозначимости, вплоть до клинического нарциссизма. Сложно себе представить, как удержаться от культа собственной личности, когда у тебя в руках оказалась верховная власть над собственным населением на собственной территории и имея людей в своей личной собственности с правом казни, помилования, эксплуатации, которые «убеждены» в божественности твоего права властвовать над ними как собственностью и необходимости их подчинения тебе единственному22.
Невероятно, до какой степени опьянения властью можно докатиться и какую мессианскую самооценку иметь, чтобы начать в честь насыщения своей гордыни и фантастически раздувшегося эго или в честь восхваляемых тобой богов возводить египетские пирамиды, грандиозные храмы и дворцы, разбивать величественные сады с газонами, фонтанами и аллеями, строить целые города, завоевывать новые территории, кладя на алтарь ради этого жизни тысяч и миллионов людей23. И также невероятно и удивительно, до какой степени опьянения подчинением можно докатиться и какую раболепную самооценку иметь, чтобы исполнять чьи-то фантазии, жертвуя собой беззаветно, словно вещью. Абсолютному праву определять судьбу раба противопоставлялось полное отсутствие правосубъектности последнего, его обезличивание. И здесь имело значение именно «видовое» отношение к рабу, положение которого просто «обязывало» господина к содержанию его как недееспособного и установлению его личной зависимости от хозяина. Рабовладельцы были результатом саморазвития рабов. А рабы были результатом саморазвития рабовладельцев.
Само понимание рабства, например, у древних римлян и греков было основано на расизме: раб ассоциировался с иностранцем, варваром 24. Что в общем не означало невозможности установления между ними в процессе совместной жизни и деятельности человеческих отношений, но означало, что отношение «господин – раб» основано на обычаях и нравах, то есть на нормативности сознания. Лежащий в основе рабства расизм, думается, характерен для любого проявления экзоэксплуатации. Сложнее понять эндоэксплуатацию, загадка которой, как представляется, может быть объяснима алчной, расчетливой природой человека в его «борьбе за верховенство» (А. Адлер), то есть социально-психологически, когда один жаждет превосходства за счет другого, а тот «согласен» подчиняться, и это «освящено» и скреплено нормативностью их сознания. Поэтому не менее важным фактором, объясняющим предопределенность конфликта между людьми (особенно «чужими»), является инстинкт доминирования (самосохранения), борьба за ранг в социальной системе, который находит удовлетворение не только в победах и достижениях, но и в насилии над жертвой, всяких издевательствах, истязаниях, глумлениях.
Правовые обычаи в синкретическом смешении с религиозными верованиями и мифологией порождали, соответственно, два «высших» источника обязательности того времени. Насколько мы можем судить, единственным источником рабовладельческого права, основанном не только на обычае и религиозном сознании, но и на законе, было установленное право кредитора обращать в рабство своего должника. Такой обычай, отраженный в законах, как известно, встречается не только в античный период. Впоследствии правовые обычаи всё более поглощались нормативно-правовыми актами и требовали либо доказательства их значимости в суде, либо санкций уполномоченного должностного лица. Тем не менее основа рабства — психологическая и коммуникативная. «Прежде, в эпоху рабства, люди приписывали себе право владеть, пользоваться и распоряжаться другими людьми, рабами как предметами собственности и хозяйственной эксплуатации и считали это право вполне естественным и священным, установленным самими богами. Но теперь восстановление рабства, крепостного права и т. п. было бы немыслимо не только потому, что нельзя было бы достигнуть соответствующей пассивно-правовой мотивации на стороне числящихся подчиненными, но и потому, что на стороне господ не было бы сознания правоты их положения и активно-этической санкции мотивации рабовладельческого владения»25.
В рабовладельческой нормативности сознания иерархия источников обязательности была неоднозначной и изменчивой. Юридическая сила некоторых источников обязательности то становилась верховной, то занимала более скромное положение. Достаточно вспомнить значимость постановлений сената в эпоху Республики, когда он играл существенную роль в жизни всей страны, и имел локальную значимость постановлений сената в эпоху Империи, когда он превратился в совет города Рима. Интересна теоретическая иерархия источников римского права согласно Институциям Гая, который жил и творил в период расцвета эпохи Принципата, до эпохи Империи: «Право же римского народа состоит из законов, плебисцитов, сенатских постановлений, конституций принцепсов, эдиктов тех, у кого есть право издавать эдикты, и ответов юристов»26.
Психологическими причинами постепенного исчезновения рабовладельческой системы производства стало осознание ее неэффективности с точки зрения производительности, сопровождаемое нарастающим сопротивлением со стороны рабов, выражающимся в их незаинтересованности. «Взятый» господами «кредит доверия» у управляемых в виде права на насилие возвращался рабам как больше не имеющий значения долга (добра) 27 для рабовладельца. Но взамен рабы «отдавали» новый кредит управляющим в виде делегирования им права на насилие на определенной территории (земле), к которым феодалы «уполномочивались» прикреплять рабов, «замыслив» их для общего блага как множество разновидностей зависимых крестьян и рабочих (холопы, смерды, чернь, рядовичи, закупы, вдачи, челядь, черносошные, вилланы, вилланы маноров, копигольды, дворецкие, камердинеры, лакеи, гайдуки, мажордомы, арапы, акробаты, вайшьи, шудры, дворня и т. д.), а себя «задумав» как множество разновидностей господ (короли, цари, султаны, падишахи, шейхи, эмиры, императоры, графы, князья, лорды, бароны, сэры, пэры, мэры, бояре, баре, помещики, сегyны, брахманы, кшатрии, знать, епископы, святые патриархи, папы римские, придворные и т. д.).
Феодальная правовая коммуникация
Эволюция нормативности сознания двигалась в направлении познания возможностей права как регулятора и правовых возможностей субъектов права. Классовая борьба рабовладельцев и рабов привела к эволюции их общего сознания, что раб может сам себя содержать своим трудом, но трудясь на земле, принадлежащей господину, и платя ему ренту (оброк, барщину, панщину, выкуп, откуп, дань, налог, сбор, повинность, тяготу и т. д.). Однако объемы прав и обязанностей незначительно, но распределились в сторону их увеличения у управляемых и постепенного уменьшения у управляющих (теперь убивать крестьян стало предосудительно, они же не рабы какие-нибудь, они тоже люди, просто зависимые от господ!). Формой принуждения к труду становится не утомительное физическое насилие, а экономические и психологические рычаги давления. Крестьянин получал свою совокупность знаний о возможностях права как регулятора и своих правовых возможностях в форме дозволенного ему режима проявления инициативы и заинтересованности в производстве материальных благ собственным трудом для личного потребления на «своей» земле с отдачей доли на кормление феодала. Вполне себе начальная форма предпринимательства. Ведь возможность личного потребления собственной произведенной продукции означает и правовую возможность обмена на другие товары, продажу и, если повезет, впоследствии становление фермером, купцом, работодателем28. Право начинает осознаваться в форме личного интереса (стремления к выгоде).
Проблема длительности изживания феодализма также носила экономический и социально-психологический характер. Представим себе, что какой-нибудь помещик вдруг решил отпустить крестьян в свободную жизнь. Но возникал экономический вопрос у крестьян и рабочих: а как жить без земли и без инвентаря? Как вариант, можно было предложить крестьянам брать землю в аренду. Но опытные хозяйственники на это сразу возразили бы: а если неурожай, чем платить? Такое освобождение выглядело драматическим, поэтому всё оставалось в подвешенном состоянии многие века. Феодалы были результатом саморазвития крестьян, а крестьяне были результатом саморазвития феодалов.
Тем не менее феодальный способ производства долгими и замысловатыми путями породил саму возможность циркуляции индивидов в общественной иерархии и возможность динамики социальных статусов, ярлыков, ролей, весьма разнообразив структуру населения и сделав возможным возникновение так называемого «третьего сословия» в виде городского населения. Город стал местом роста капитала и добывания новых совокупностей знаний. Горожане — это не только откупившиеся или беглые крестьяне и простые рабочие, это все слои населения, кроме дворян и духовенства. И в первую очередь это люди свободных профессий (лекари, учителя, литераторы, ученые, купцы, юристы, специалисты, ремесленники, ростовщики, банкиры). Их непривилегированность заключалась в том, что на них возлагалась обязанность платить налоги и предполагалось полное отсутствие политических прав. Дворяне занимали политические чиновнические посты и были управляющими общества, подчеркивая свою разницу между ними и буржуа как между господином и лакеем. Да, дворянские звания, поместья и должности покупались и продавались буржуа. Однако благородное происхождение не купишь.
Феодализм как нормативность сознания был чрезвычайно устойчив, и его разложение оказалось возможным только благодаря утрате дворянами управленческих совокупностей знаний, когда их уделом окончательно стали бедность и гордость. Правящие дворяне с убылью привилегированности своих «со-знаний» оказались нарушителями социального закона, ведь не может так быть, чтобы у правящих было меньше материального богатства и знаний, чем у управляемых, за что и поплатились.
Возникновение городов положило начало формированию феномена городского права, основанного на совершенно иных принципах, отражающих потребности бюргерства, ставшие провозвестником возникновения гражданского общества и идеи верховенства права29. Феодализм и торгово-бюргерский способ производства были связаны симбиотическими узами. Именно развитие городского уклада с его торгово-бюргерской системой хозяйства сделало возможным появление в XVI в. капиталистической фор-мации30.
Переход от рабовладельческого способа производства к феодальному продолжился от управляющих к управляющим. Начало феодальной нормативности сознания как некоторое несоответствие (отрицание) ее исходному состоянию в виде рабовладельческого строя с нарастанием количества феодально-настроенных управляющих и управляемых произошло. Однако в период восстаний и революций буржуазии (городского населения), благодаря перехвату инициативы в овладении и приращении объемов новых совокупностей знаний и приобретению благодаря этому материальных богатств, а также росту правового и политического сознания, превосходящих дворянские богатства и их суженное политико-правовое сознание, произошло превращение обделенно-управляемых буржуа в привилегированноправящих капиталистов, то есть переход к новой нормативности сознания произошел от управляемых к управляющим как результат превращения их объемов прав и обязанностей в новые источники обязательности. Процедура движения к конечной ступени развития как отрицание феодализма (отрицание отрицания) с тенденцией формирования исходного состояния новой нормативности сознания в виде капитализма была также заложена.
Буржуазно-капиталистическая правовая коммуникация
Именно в период появления и роста количества «со-знаний» класса буржуазии сыграл роль эффект трансмутации (превращения) их объемов прав и обязанностей из фантазий в реальные источники обязательности. Феодальные источники обязательности (королевские прерогативы, законы, грамоты, привилегии), напротив, превратились в фантазии отставших в развитии феодалов. Убыль «со-знаний» феодалов и нарастающее количество «со-знаний» буржуа привели в итоге к трансмутации в социальной иерархии. Как известно, наиболее пассионарные буржуазно настроенные западные общества прошли эту смену эпох в форме социальных революций. Революция вообще, как резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому, играет селекционно-экзаменационную роль реактива. Мы часто не знаем, когда наши субъективные представления соответствуют объективным обстоятельствам, поскольку наш умственный багаж состоит не только из подлинных «знаний», подтверждаемых опытом или логикой, но часто под именем «знаний» и «научных достижений» выступают теории и верования ложные, не соответствующие действительности, но принимаемые за истинные «знания», как отдельным индивидом, так и большинством общества31. Кроме того, в «дело вмешивается» сам по себе интеллектуально-волевой характер истины, когда признание того или иного знания истинным или ложным зависит не только от соответствия его содержания объекту, но и от общественного консенсуса по его признанию таковым.
Нарастающее количество «со-знаний» управляемых буржуа и убыль «со-знаний» управляющих феодалов оказывается неким спусковым механизмом перехода от одной нормативности сознания (общественно-экономической формации) к другой, обратным воздействием общественного сознания на общественное бытие. П. А. Сорокин показал, что причинами социальных революций выступают одновременность двух факторов: ущемление главных инстинктов (рефлексов) у подавляющего большинства населения, с одной стороны, и дегенерация официальной власти — с другой. Главные инстинкты населения совпадают с базовыми потребностями в питании, индивидуальном и групповом самосохранении, жилище, одежде и тепле, собственности, самовыражении, свободе. Социолог доказывает свою мысль о причинах революций на большом историческом материале32. Ущемление главных инстинктов совпадает с сужением, ограничением индивидуальных объемов прав и обязанностей, а также с моментом внутреннего протеста, возмущения, восстания, расширения «со-знаний», что так жить больше невозможно, толкающего на поиск выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации и новых форм поведения и знаний. Если такое ущемление происходит у массы лиц, наступает развал общественного порядка, начинаются волнения, смуты, революция, высвобождающие и рассыпающие огромные пласты совокупностей знаний. С одной стороны, такое расширение, «вспучивание» «со-знаний» ущемленных сопровождает убыль, сужение «со-знаний» управляющих, выражающееся в бессилии и дезорганизации, неумении или недостаточности усилий в уравновешивании возросшего давления ущемленных рефлексов масс пропорциональным встречным торможением (перенаправлением, контрдавлением, устранением или ослаблением причин ущемления, разбиванием или разделением ущемленных групп на части, противопоставлением их друг другу, канализированием выхода ущемленных инстинктов в нереволюционные формы). С другой — происходит произвольное расширение, «вспучивание» объемов прав и «сбрасывания» с себя обязанностей деградирующих феодалов и, напротив, сужение объемов прав и появление новых обязанностей у подвластных33. Буржуа были результатом саморазвития феодалов, а феодалы были результатом саморазвития буржуа.
На смену партикуляризму и раздробленности феодальной правовой коммуникации пришли прогрессивные взгляды буржуазии о свободе, равенстве и братстве, гражданском обществе и правовом государстве, общественном договоре и священности частной собственности, под лозунгом которых ею свершались революции. Возможности права и правовые возможности субъектов права казались безграничными. Право начало осознаваться в форме личной свободы (хоть и бумажной, формальной). В любом случае буржуазная правовая коммуникация впервые, несмотря на всю ее лицемерность, предстала как самостоятельная форма эволюции правовой мотивации к общему благу. Развитие частной собственности сограждан послужило началом формирования гражданского общества, «…политической доминантой которого служит идея индивидуальной свободы и естественных неотчуждаемых прав человека-собственника»34. Собственность и свобода — понятия одного ассоциативного ряда. Реальная свобода обусловлена обладанием ресурсами. Главной чертой нормативности сознания буржуазии стала власть (права) собственности.
Лицемерность буржуазного либерального права проявилась в том, что фактически в лице победившей буржуазии возникали новые эксплуататоры, сменившие на этом посту отставших в развитии феодалов как класс. Новой формой экономического закрепощения стала власть обладателя средств производства в отношении «свободного» обладателя труда, который только продав его как товар капиталисту за его меньшую стоимость, прибавив таким образом ее к капиталу своего «благодетеля», может купить хлеб35. Страсть к обогащению заставляет капиталиста «…постоянно расширять свой капитал для того, чтобы его сохранить, а расширять свой капитал он может лишь посредством прогрессирующего накопления». «Итак, накопление капитала есть увеличение пролетариата»36.
Современная капиталистическая мировая система также не избавлена от склонности к долгому и мучительному разложению, а происходят эти процессы весьма изощренным способом, но вполне в согласии с описанием К. Маркса37, как представляется, преждевременно многими из нас обесценен-ным38, хотя время его основного прогноза о глобальной централизации капиталов только наступает. Капиталисты стали результатом саморазвития рабочих, а рабочие стали результатом саморазвития капиталистов. Как и при первобытно-общинном строе, проблема капиталистических обществ заключается в том, что они состоят не просто из «своих» капиталистов, отгороженных друг от друга государственными границами, но из множества разных и «чужих» капиталистов (международные фонды, транснациональные компании, банки, династии, инвесторы, спекулянты, кланы, картели, целые государства), не защищенных друг от друга никакими государственными и иными границами, а также из международных террористических организаций, пиратов, бандформирований, спецслужб государств, лоббирующих интересы отдельных капиталистов и воинственно («агонистическое поведение»), захватнически («агрессивное поведение») настроенных друг к другу. Хочется, отчаявшись, сказать, что всё движется, но пребывает в покое, и мир изменился, но остался прежним. И тем не менее, если в древние времена жизнь родоплеменных организаций характеризовалась исключительно и бескомпромиссно как борьба за существование в «животном царстве», где выживает только сильнейший и умнейший, сегодняшняя внутригосударственная (хотя бы в развитых странах) и международная жизнь (так или иначе) характеризуется «конкуренцией как процедурой открытия» (Ф. Хайек), а значит, предполагает опять же правовую коммуникацию (поиск соглашений) в масштабе всего человечества как свою необходимую форму. Иными словами, если раньше доминантой сознания была физическая ликвидация локального «врага» или его порабощение, то сегодня у проигравшего есть право быть хотя бы не уничтоженным, а финансовая несостоятельность индивидов, народов и государств приводит не к рабству, а к банкротству, и хоть и призрачному, но шансу на новую жизнь. К тому же за всю историю, кажется, не было такого периода в жизни человечества, когда приоритет потребностей большинства был бы основной нормой (законом)
в большинстве стран, достигших уровня осознания права как личной свободы. Такой прогресс может показаться неоднозначным. Однако это всё же прогресс39.
Выводы
У идеи социального прогресса (равно как и у идеи правового прогресса) есть немало критиков и скептиков, давно представивших аргументы против его реальности: от обвинений в наивности его (прогресса) приверженцев в силу неподтверждаемости историей человечества, которая носит скорее циклический, а не поступательный характер, до представления апокалиптических сценариев (сбывшихся и ожидаемых), наподобие Второй мировой войны или глобальной ядерной войны, как его опровержений. Однако «всё, что не растет, то умирает». Третьего не дано. Ключевое понятие в нашей максиме — «общее» благо, к которому, как мы попытались показать, привел именно нелинейный прогресс в правовых и этических представлениях, а не просто автоматическая смена общественно-экономических формаций (вроде фатума). То есть мы не просто не вымерли как вид (читай: выросли и продолжаем рост), мы прогрессировали в осознании ценности человека не только как средства, но и как цели; именно количество и свойства людей стали новым капиталом и конкурентным преимуществом; общества, не осознающие этой максимы, обречены на деградацию и несостоятельность.