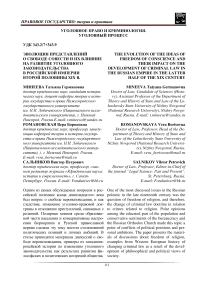Эволюция представлений о свободе совести и их влияние на развитие уголовного законодательства в Российской империи второй половины XIX в
Автор: Минеева Татьяна Германовна, Романовская Вера Борисовна, Сальников Виктор Петрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (55), 2019 года.
Бесплатный доступ
Одним из самых обсуждаемых вопросов в российской полемике конца девятнадцатого века был вопрос о свободе вероисповедания, и как следствие, изменение уголовно-правовой доктрины в отношении преступлений, связанных с религией. Полярные мнения среди образованной части населения и консервативные настроения бюрократии и Русской православной церкви сделали эту тему местом столкновений политических позиций и личных амбиций. В статье приводятся материалы дискуссий о свободе вероисповедания, примеры из западноевропейской истории по изменению уголовного законодательства как результата развития философских и политических воззрений общества.
Свобода совести, свобода вероисповедания, уголовное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/142233980
IDR: 142233980 | УДК: 343.2/7+343.9
Текст научной статьи Эволюция представлений о свободе совести и их влияние на развитие уголовного законодательства в Российской империи второй половины XIX в
Первыми представлениями о свободе совести человечество обязано эпохе Возрождения. Трудно сказать, кто именно из мыслителей того времени впервые сформулировал это понятие. Первоначально свобода совести и свобода вероисповедания по смыслу практически не различались. Более того, свобода совести как раз и ограничивалась рамками свободы вероисповедания. Этот термин встречается у Томаса Мора в «Утопии» [8, с. 200], где он говорит о том, что утопийцы пользуются полной свободой совести, исключая лишь атеистов, ибо атеизм разрушает душу и личность человека. О свободе вероисповедания упоминали и Д. Локк, и Т. Браун [18], и Вольтер, и Ш-Л. Монтескье, считая ее частью естественных прав человека. Российское государство XVIII в., как это не покажется странным, демонстрировало значительную веротерпимость. Император Петр Великий брал на службу иностранцев различных вероисповеданий, руководствуясь их личными и профессиональными качествами. Либеральный религиозный курс, взятый руководством государства, продолжался в годы правления Екатерины II, Павла I, Александра I. А. Клаус, изучавший историю переселения в Россию секты меннонитов, писал: «Итак, горсть несчастных последователей Гуттера вместо огня и меча, преследовавших их на цивилизованном Западе, нашли в России не только все материальные способы спокойной жизни по догматам церковно-социального своего учения, но еще и особые льготы, обеспечивавшие братству вполне самостоятельное гражданское положение по внутреннему устройству общины» [6].
В июле 1763 г. Екатериной II был подписан специальный манифест, по которому религиозные секты, гонимые инквизицией в Западной Европе, имели возможность свободно поселяться в новых степных владениях России.
Александр I покровительствовал созданию в России различных библейских обществ английскими миссионерами. До начала царствования Николая I русское правительство поддерживало идеи религиозной свободы, провозглашенные философами эпохи Просвещения.
В XIX веке европейские и российские юристы начали активно обсуждать различные аспекты концепции веротерпимости. Во второй половине XIX в. во многих отраслях естественных и гуманитарных наук, первенство принадлежало немецким ученым. Они оперировали понятиями «религиозная свобода», «свобода совести», «свобода исповедания», считая их отнюдь не тождественными. По мнению А. Блунчли, свобода совести является источником свободы исповедания, так как исповедания является лишь обнаружением веры, живущей в душе человека. На свободу веры никто не может посягнуть, так как она скрывается в душе. Свобода же исповедания зависит от государства, «над ним и церковные, и государственные мужи, теологи и юристы, около столетия спорили и до сей поры еще спорят» [17, p. 6]. Объем религиозной свободы по Блунчли связан с независимостью гражданского права и политического государственного права от определенного религиозного исповедания. Если государство гарантирует свободный доступ для перехода от одного вероисповедания к другому, отсутствие принуждения к участию в богослужебных действиях, право выбирать способ богопочи-тания и церковное воспитание детей, то можно говорить о сумме прав индивида в вопросах религии [17, p. 36].
Профессор Мартенс, российский юрист-международник, автор научных работ в области международного права, член Совета Министерства иностранных дел России (с 1881 года) ставил понятие религиозной свободы в зависимость от понятия нового правового государства. Развивая учение о правовом государстве, предложенное Г.В.Ф. Гегелем, Мартенс полагал, что правовое государство создает новую систему религиозных отношений, основу которых составляет религиозная свобода, которую он понимает как свободу вероисповедания. В таком случае, каждый человек может самостоятельно избирать конфессию, переходить от одной к другой, соблюдать или не соблюдать религиозные обычаи, вообще не присоединяться ни к какой конфессии. Государство должно терпеть и атеистов, если оно признает полную религиозную свободу. Каждый подданный государства вне зависимости от его религиозных убеждений должен пользоваться всеми гражданскими и политическими правами, допускаться к занятию государственных должностей и принимать участие в законодательстве [20, p. 351].
Профессор Гиншиус рассматривал религиозную свободу как основной принцип религиозной политики государства. Если удобное для любого человека исповедание не нарушает публичный порядок и не возмущает общественное мнение, свобода совести дополняется свободой культа, т.е. правом одинаково верующих людей соединяться в собраниях и обществах для отправления богослужения. Государству должно быть чуждо понятие ереси, последняя не должна рассматриваться как наказуемое преступление [19, pp. 234-235]. Идеи западноевропейских юристов о признании принципа религиозной свободы проникали в сферу деятельности судов. Из уголовных кодексов стран Западной Европы, признавших принцип религиозной свободы, исчезли составы религиозных преступлений, например, ереси и раскола. Западноевропейские государства «отказались от миссии мстить за оскорбление Бога, поставив под защиту закона верования каждого признанного культа от обиды и оскорбления, от стеснения и материального нападения» [4, с. 115]. В силу этого положения, из уголовных законов исчезло понятие «богохульство», в смысле непосредственного оскорбления бога христианского культа, а появилось понятие «публичное оскорбление верующего», безотносительно, подвергается оскорблению приверженец христианства, мусульманства или иудаизма.
В Россию подобные теории проникали медленно, но, тем не менее, имели некоторое количество приверженцев. В защиту принципа религиозной свободы выступал известный юрист А.Ф. Кистяковский. По его мнению, веротерпимость является обязательным условием спокойного и безопасного существования государства. А.Ф. Кистяковский, исходя из концепции исторической школы права, полагал, что, как правовые семьи, так и религии исходят из исторических и национальных особенностей. «Все религии… опираются на исторические факты, они подкрепляются одними и теми же доказательствами… все они имеют среди своих поклонников людей просвещенных и честных, что противоречивые религиозные мнения исповедуются по доброй воле теми людьми, которые целую жизнь размышляли о предметах веры, и потому законодатель должен быть веротерпим» [4, с. 112]. По мнению А.Ф. Кистяков-ского, ортодоксия и неверотерпимость являлись источниками величайших бедствий в истории Европы. Они порождали религиозные войны, питали ненависть населения к правительству страны, поддерживали смуты и мятежи, они дали огромное количество кар и наказаний в виде лишения прав, изгнания, тюрьмы, ссылки, мучений и телесных наказаний, в виде смертной казни инакомыслящих.
Для прогрессивных ученых-правоведов, в том числе, декана юридического факультета и ректора Императорского Юрьевского университета, специалиста в области уголовного права Петра Павловича Пусторослева, вопрос о религиозной свободе был неразрывно связан с задачами культурного и правового государства. Профессор П.П. Пусторослев полагал, что присутствие нескольких народов с высокой культурной традицией в рамках одного государства может привести к увеличению благосостояния всех народов в том случае, если верховная власть государства руководствуется в своей общественной деятельности рядом принципов, к числу которых относится и возможность удовлетворения религиозных потребностей граждан. Поскольку верования людей могут быть различными, то государство придерживаться принципа веротерпимости и религиозной свободы. П.П. Пусторослев под религиозной свободой понимал совокупность свобод: избрать и соблюдать ту религию, которая соответствует чувствам и убеждениям отдельно взятого человека (т.е. свободу исповедания веры), возможность проповедовать основы своей религии другим людям (т.е. свободу проповедования веры), возможность соединяться в организованный союз (т.е. свободу соединяться в ре-
лигиозные союзы), возможность совершать религиозные обряды по правилам своей веры (т.е. свободу богослужения) [11, с. 33-45]. Однако П.П. Пусторослев не считал возможным распространять принципы религиозной свободы и веротерпимости на религии, «несовместимые с интересами народного благосостояния» [11, с. 40], не разъясняя, какие именно религии он имеет в виду.
Другие представители российской правовой мысли по-иному рассматривали объем религиозной свободы. Так правовед-криминалист, ординарный профессор Киевского университета, профессор Леонид Сергеевич Белогриц-Котляревский включал в понятие религиозной свободы свободу совести или свободу выражать свои религиозные убеждения, в том числе и публично. Таким образом, следовательно, и свободу вести миссионерскую деятельность; право свободного отправления культа по всем религиозным обрядам и церемониям, т.е. право свободного богослужения; право свободной деятельности религиозных организаций [1, с. 392-395]. Профессор Белогриц-Котляревский также настаивает, что религиозная свобода не может выражаться в поношении других религиозных культов, проповеди безнравственности, подстрекательства к совершению противоправных действий. Все подобные действия, угрожающие общественному порядку, выходят за пределы свободы совести.
Известный русский ученый Н.М. Коркунов в понятии религиозной свободы выделял свободу совести индивидуального лица и свободу церковную. Индивидуальная свобода совести, по мнению Н.М. Коркунова, может существовать для совершеннолетних и включает в себя свободу выбора религии, в том числе и свободу основания нового культа, свободу исповедания, в том числе и свободу проповеди и свободу совершения религиозных обрядов; пользование гражданскими и политическими правами независимо от различия религиозных верований. Церковная свобода слагается из свободы основания новых религиозных обществ, свободы церковной организации и управления и полного равенства всех религиозных сообщества [7, с. 127]. Видно, что Коркунов более широко трактовал религиозную свободу и свободу совести, выделяя при этом не только право индивида, но и право церковной организации.
Прямым следствием принятия принципа религиозной свободы в запанной Европе и в России должно было стать учение о сущности и характере религиозных преступлений.
Ученые-правоведы отмечали, что западноевропейское законодательство XVIII– XIX вв. в вопросе религиозных преступлений весьма немногочисленно. К ним относятся бо-гохуление, выражение презрения или поношение какого-либо вероисповедания, его учреждений и обрядов, препятствия к богослужению или богомолению, осквернение места религиозных собраний, надругательство над вещественными предметами религиозного культа, нарушение покоя мертвых или повреждение гробниц. По-видимому, провозглашение конституциями западноевропейских стран религиозной свободы привело к ограничению объема преступлений против религии, в их перечне остались только те, которые касались защиты права религиозной свободы.
Вопросы, связанные с церковным правом и религиозными преступлениями, в России были значительно менее разработаны, чем в Германии и других странах Западной Европы. Например, Л.С. Белогриц-Котляревский в 1881 г. заявил, что «вопрос о преступлениях против религии принадлежит к числу наименее разработанных» [2, с. 3].
Российские юристы второй половины XIX в. считали объектом религиозных посягательств неприкосновенность прав религиозной свободы отдельного лица или целого общества. По мнению А.Ф. Кистяковского «всякое реальное насилие или всякое действительное религиозное оскорбление религиозной общины или частного человека, отправляющего обряды своей веры, будет преступлением…, объектом преступления [является] …неприкосновенность каждого человека свободно и ненарушимо исповедовать и проявлять ту религию, к которой он принадлежит» [5, с. 284].
Основой дискуссии в зарубежной и отечественной правовой мысли, таким образом, стал вопрос о том, может ли светский суд на базе уголовного права защищать церковь, карая религиозные преступления. Западные юристы, говоря о религиозных преступлениях, видят их объект в собственно религии, которая является институтом, сплачивающим отдельных индивидов в общее целое, в то время как российские юристы, ратуя за расширение границ веротерпимости, имели в виду то значение, которое религиозная свобода могла иметь для отдельно взятого человека. Л.С. Белогриц-Котляревский полагал, что «запрещая публичные непотребные действия или распространение непотребных сочинений, рисунков и изображений, государство, очевидно, исходит не из соображения неприкосновенности чьих-то прав, а из соображения значения морали как одной из основ общественного строя. Таким образом, объектом преступления может быть не только неприкосновенность прав, принадлежащих или частным лицам или непосредственно государству, но и общие основания социального порядка, потрясаемые грубыми нарушениями нравственности или религиозности» [1, с. 302-303].
Н.С. Таганцев [15, с. 520] и Н.Д. Сергиевский [13, с. 255] полагали, что уголовные законы могут и должны преследовать за оказание неуважения к догматам и обрядам церкви, так как деяния эти посягают на права людей и стесняют их религиозную свободу.
А.Ф. Кистяковский полагал, что «всякое действительное оскорбление религиозной общины или частного человека, отправляющего обряды своей веры, будет преступлением» [5, с. 255], т.е. в основе лежит право каждого человека исповедовать ту религию, к которой он принадлежит. Стремление ограничить количество уголовных дел, рассматриваемых церковными судами, либо квалифицированных как преступления против веры, приводило к тому, что, по словам Н.Д. Сергиевского, сложилось «особое настроение многих писателей-юристов XIX столетия…, побуждало их умалять во что бы то ни стало значение религиозного момента в праве вообще и в уголовном праве в частности… Писатели как бы игнорировали, что религиозные убеждения граждан представляют собой, может быть, самую могучую из духовных сил, движущих человеком, притом силу всепроникающую, не только господствующую в сфере внутренних движений человека, но и управляющую в значительной степени его внешней деятельностью, его отношениями к ближним, к обществу и даже к государству» [12, с. 14-15].
Отметим, что правовая доктрина, не признававшая преступлениями многие составы, каравшиеся в средние века и новое время как преступления против веры в странах Западной Европы, противоречила и Уголовному Уложению Российской империи 1885 г. Однако немногими российскими юристами делались попытки сузить объем религиозных преступлений по примеру западноевропейского законодательства. Например, в 1881 г. на заседании уголовного отделения Санкт-Петербургского юридического общества адвокат В.Д. Спасович предложил изменить перечень религиозных преступлений и исключить из них лжеприсягу, квалифицируя ее как преступление против судебной власти, святотатство, ограбление и разрывание могил с квалификацией общих преступлений, богохульство и кощунство [10].
Результатом эволюции научно-правовой мысли и изменения государственных подходов в Российской империи стало Уложение 1903 г., в котором, по словам одного из его составителей Н.С. Таганцева, из числа религиозных преступлений были исключены лжеприсяга, святотатства, повреждение предметов, употребляющихся в богослужении или почитающихся священными, отклонение от исполнения церковных постановлений [16, с. 8]. Теперь к преступлениям против веры относились надругательство и осмеяние Церкви, религиозных верований, возложение хулы на бога; нарушение требований о погребении христиан с соблюдением церковного обряда; нарушение уважения к усопшим; нарушение свободы отправления веры, принуждение к совершению религиозного обряда, либо препятствование ему; совращение; проповедь некоторых лжеучений; принадлежность к вероучениям, признаваемым нетерпимыми в государстве; нарушение некоторых особых постановлений закона Российской империи в ограждении православной веры от отвлечения православных в другие вероисповеда-
ния. Развитие проблемы отмечено указом правительствующему Сенату от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», который был посвящен необходимости пересмотра позиций Уголовного уложения 1903 г. по церковным вопросам. Министерством юстиции был подготовлен указ «Об облегчении участи лиц, осужденных за религиозные преступления», опубликованный 25 июня 1905 г. [14] В Государственном совете развернулась дискуссия по поводу подготовки главы II Уголовного уложения 1903 г.
Во-первых, у депутатов вызвало сомнения предложение об отмене статей о наказании родителей, обязанных воспитывать своих детей в православии за совершение над ними нехристианских обрядов либо обрядов других христианских конфессий. Отметим, что статьи 88 и 89 II главы Уложения со значительным перевесом (57 голосов против 20) были оставлены без изменения [3, с. 264].
Во-вторых, предполагалась отмена пункта об ответственности духовного лица инославного вероисповедания за допущение к исповеди или причастию лица заведомо православного (статья была сохранена примерно с таким же соотношением голосов) [3, с. 264].
В-третьих, предлагалось также даровать присяжным заседателям право ходатайствовать о смягчении участи подсудимого или освобождении его от наказания. Однако и эта поправка была отвергнута Государственным советом [3, с. 265].
Решение Государственного совета показывает, насколько сильными были консервативные настроения в правящей элите Российской империи и влияние иерархов православной церкви. Уголовное уложение было неоднозначно принято российской юридической общественностью. По мнению С.В. Познышева, следовало бы дополнить Уложение статьями о преступлениях и проступках, совершенных лицами, пользующимися полной религиозной свободой, равной для всех и невозможности отказа от исполнения, под предлогом религиозных убеждений, от исполнения обязанностей, возлагаемых законами или распоряжениями власти [9, с. 296].
Дискуссии о церковном праве, дополнении и изменении статей Уложения, совпадении или различии норм религиозно-нравственных заповедей и церковных законов продолжались практически до 1917 г. Можно с полным правом сказать, что это была одна из самых обсуждаемых и злободневных проблем российского общества конца XIX– начала XX вв.
Список литературы Эволюция представлений о свободе совести и их влияние на развитие уголовного законодательства в Российской империи второй половины XIX в
- Белогриц-Котляревский Л.С. Преступления против религии в древнейших государствах запада. Ярославль, 1886.
- Белогриц-Котляревский Л.С. Преступления против религии. Ответ И.Я. Фойницкому. Ярославль, 1887.
- Дорская А.А. Государственное и церковное право Российской империи: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.
- EDN: QXMNBT
- Кистяковский А.Ф. О преступлениях против веры / Наблюдатель. 1882. № 10. Октябрь.
- Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Изд. 3. Киев, 1872.