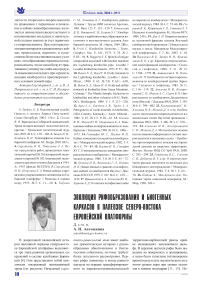Эволюция рифообразования и биогенных каркасов в палеозое северо-востока Европейской платформы
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/149128969
IDR: 149128969
Текст статьи Эволюция рифообразования и биогенных каркасов в палеозое северо-востока Европейской платформы
В доорогенной палеозойской истории пассивной окраины северо-востока Европейской платформы выделяются три этапа развития органогенных сооружений в составе калейдовых формаций [4]. Они представляют собой циклически построенный эволюционный тренд (см. рисунок). Начальный кара- 10
докско-раннеэмский этап имеет наиболее драматическую историю с разнообразными абиотическими и биотическими событиями, поэтому требует более детального рассмотрения. Первые рифы появились в конце раннего ашгилла на окраине трансформированного из карадокско-раннеашгиллской терригенно-карбонатной рампы крайне мелководного засолоненного шельфа. В середине ашгилла рифы были выведены на поверхность и эродированы, а затем были затоплены (яптикшорское время) в результате эвстатического поднятия уровня моря при таянии ледников в южном полушарии [11, 15]. Не-
■ТТ - биогермные структуры, образованные преимущественно уд] биогермные структуры, образованные 6Яй . биогенные и абиогенные структуры, образованные метазоино-микробиальными сообществами цИамобактериальными сообществами неидентифицируемыми кальцимипробами
^2 " биогермные структуры с крустификационной цементацией <— события вымирания: ГСМВ (глобальное событие массового вымирания) и w , _ БС (биотическое событие), установленные в слоистых толщах нашего региона
« » открытый шельф = рампа со свободным водообменом
Эволюция рифообразования в палеозое северо-востока Европейской платформы (1), распространение (%) основных категорий биогенных каркасов (2) и физико-химические параметры морской среды (3).
А — модель Сандберга [19, 20] постулирует изменение между временем преобладания арагонита и высокомагнезиального кальцита (средний визе–триас) и временем доминирования кальцита (кембрий–ранний визе). Б — Модель Стенли–Харди [20] описывает столетние колебания в карбонатной минералогии очень быстро обызвествляющихся рифостроителей и продуцирующих осадок организмов. Модель связывает фанерозойскую скелетную минералогию с химическим составом морской воды, минералогическим и биологическим составами сообществ рифа и биокластовых карбонатных осадков. Следует отметить слабые отличия во времени доминирования арагонита и кальцита при сопоставлении с моделью Сандберга. В — Модель Харди [12] объясняет синхронные колебания в преобладающей минералогии нескелетных карбонатов и морских калиевых эвапоритов как результат вариаций соотношения Ca/Mg и концентраций Са в морской воде. Граница между образованием областей низкомагнезиального кальцита и арагонита+высокомагнезиального кальцита показана горизонтальной линией на уровне Mg/Ca = 2
давние исследования на Приполярном Урале показали, что после глобального поднятия уровня моря было его резкое падение, связанное с заключительной фазой позднеордовикского оледенения во время хирнанта, что выразилось формированием экзогенных брекчий бадь-яшорской свиты [3]. В конце ордовика рост рифов возобновился (каменнобабская свита), но был вновь прерван эв-статическим поднятием уровня моря во время таяния гондванских ледников на границе ордовика и силура, сопровож- давшегося глобальным биотическим событием массового вымирания (ГСМВ) Хирнант (см. рисунок) [10, 15, 21]. Вновь рифы возникли в конце среднего лландовери, и на окраине шельфа уже формировались рифовые комплексы с системой рифов-бугров и пэтч-рифов, но были затоплены в начале позднего лландовери. Возобновили они свой рост лишь в позднем венлоке [9], что связано с перерывом на границе лландовери–венлока (биотическое событие Иревикен [15]), установленным по данным изотопии и по конодонтам [18], и образованием коры выветривания в пределах Хорейверской впадины [6]. В лудлове формировались окраинно-шельфовые барьерные рифы с типичной рифовой зональностью, рост которых был прерван в середине луд-фордия эвстатическим падением уровня моря, возможно связанным с оледенением [15, 16]. Последующее резкое поднятие уровня моря, сопровождавшееся биотическим событием (БС) Лау, привело к образованию и длительному 11
существованию затопленной платформы-рампы [2], и только в конце лохкова на окраине новобразованного шельфа вновь возникли изолированные рифы с засолоненным зарифовым бассейном. В прагиене сформировалась самая мощная в палеозое Урала система барьерных рифов [7], рост которых был кратковременно прерван на границе прагиена и эмса сильной регрессией, но окончательно прекратился в середине эмса в результате резкого повышения уровня моря и накопления тонких карбонатно-терригенных илов (событие Дейледж).
В среднем девоне произошла структурная перестройка, связанная с заложением Печоро-Колвинской палеориф-товой зоны [5], и формировались тер-ригенно-карбонатные отложения (фа-лаховая и платамовая формации) транзитной зоны открытого шельфа [4].
Среднефранско-турнейский этап характеризуется тем, что рифовая экосистема из-за неустойчивого тектонического режима не достигла зрелой фазы и формировались преимущественно мощные микробиальные холмы, оконтуривавшие склоны мелководных карбонатных платформ среди относительно глубоководных аноксичных бассейнов (см. рисунок). Глобальное падение уровня моря на границе фра-на–фамена и фамена–турне, сопровождавшееся биотическими событиями Кельвассер (ГСМВ) и Хангенберг [21], не отразилось на биогермных сообществах [1, 8] в отличие от планктонных сообществ [14, 24 и др.]. Регрессия на границе турне и визе и привела к эрозии турнейской карбонатной платформы и прекращению рифообразования на втором этапе.
Поздневизейско-раннепермский этап характеризуется завершением палеозойского рифообразования и изменением структуры органогенных сооружений (см. рисунок). На окраине новообразованного шельфа с засоло-ненными участками внутреннего бассейна вновь возникали метазойно-мик-робиальные рифы и микробиальные биогермы, существовавшие вплоть до предсреднекаменноугольного регионального размыва. Возобновилось ри-фообразование в касимовское время, когда на окраине деградирующего карбонатного шельфа стали развиваться изолированные и маломощные микробиально-водорослевые холмы, рост которых был кратковременно прерван подъемом уровня моря в середине по- 12
зднего карбона. Обилие скелетных метазой в карбоне и перми, однако, не способствовало образованию крупных и зрелых рифов. Преимущественно мета-зойные сообщества создавали на склонах карбонатного шельфа, деформированного наступлением Предуральского краевого прогиба, крупные скелетные холмы, отличительной особенностью каркасов которых было широкое распространение крустификационного цемента [1]. Резкий подъем уровня моря прервал биогенное карбонатонакопле-ние на внешнем краю отступающего шельфа в позднесакмарское время, а затем, в артинское время, на внутренней части шельфовой окраины, завершив тем самым рифообразование в палеозое северо-востока Европейской платформы.
Рассмотрев историю палеозойского рифообразования, обратим внимание на эволюцию биогенных каркасных структур. Они подразделяются на пять категорий (см. рисунок): 1) скелетные метазойные — коралловые, кораллово-губковые, губковые — типичные каркасные структуры в вен-локских и эмсских рифах, в лландове-рийских и пржидольских биогермах и биостромах; 2) скелетные метазойно-микробиальные (во взаимовыгодных взаимоотношениях) — губково-стро-матолитовые, губково-гидроидно-мик-робиальные каркасные структуры — характерны для среднеашгильских, луд-ловских и позднелохковско-пражских рифов, отмечены также в основании среднефранских микробиальных холмов; 3) скелетные микробиальные, в которых морфология и основные признаки анатомического строения цианобактерий хорошо сохранены и распознаются, — строматолитовые и строматолитоподобные каркасные структуры типичны для верхнедевонских и ниж-нетурнейских микробиальных холмов; 4) нескелетные кальцимикробные — микробиальные структуры тромболи-тов (агглютигермов), отмеченные в иловых холмах венлока, лохкова, нижнего эмса и нижней перми, в пэтч-рифах среднего лландовери, рифах верхнего ордовика и в микробиальных холмах верхнего девона; 5) биоцементные (биологически индуцированный цемент) — мшанковые, палеоаплизино-вые, филлоидно-водорослевые, туби-фитесовые каркасные структуры, в которых маленькие или тонкие организмы служат субстратом для твердых цементных корок, развиты в позднекамен- ноугольно-раннепермских скелетных холмах. Как показывает анализ этапно-сти рифообразования в целом и каждого этапа в отдельности, на эволюцию этих биогенных карбонатов влияли (см. рисунок): а) химизм воды: экологическая стабильность наиболее характерна для таксонов, имеющих кальциевый состав скелета; б) преобладание скелетных биокарбонатов и их видовая устойчивость, не зависящая от биотических событий; в) массовое распространение микробиальных сообществ в ответ на тектоническую активизацию; г) распространение нескелетных каль-цимикробных карбонатов, обусловленное интенсивностью спрединга (глобальной и региональной), частыми колебаниями уровня моря; д) развитие биоцементных карбонатов, определяемое сочетанием холодного климата (фаменско-позднетриасовый период) [12], повышением континентального сноса [17], увеличением трофики и арагонитовым составом океанских вод [20], глобальным понижением уровня моря [22].
В заключение отметим, что эволюция палеозойских биогенных карбонатов слабо коррелируется со стратиграфическим распространением скелетных каркасостроителей или с физикохимическими параметрами морской воды, включая колебания уровня моря или глобальные климатические циклы. Временные изменения в глобальных параметрах затрагивают скелетную биоту и биологически индуцированный карбонат независимо. Распространение кальцимикробных карбонатов контролировали в большей степени временные изменения физико-химических параметров, вызванные насыщенностью вод карбонатными минералами. Эволюция рифов регулировалась не только скелетной рифовой биотой, но и физико-химическими параметрами, управляющими кальцимиробным и микробиальным карбонатообразованием.
Список литературы Эволюция рифообразования и биогенных каркасов в палеозое северо-востока Европейской платформы
- Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое (на примере севера Урала и сопредельных территорий). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.
- Антошкина А.И. Взаимосвязь развития карбонатной платформы и рифообразования (на примере палеозоя северо-востока Европы)//Карбонатные осадочные последовательности Урала и сопредельных территорий: седименто-и литогенез, минерагения. Материалы 6-го Уральск, регион, литол. совещ. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН. 2004. С. 10-11.
- Антошкиш А.И. Нижний палеозой верховьев р. Кожим, Приполярный Урал//Изучение, сохранение и использование объектов геологического наследия северных регионов (Республика Коми): Материалы науч.-практ. конф. Сыктывкар: Геопринт. 2007. С. 65-67.
- Антошкина А.И., Елисеев А.И. Палеозойские рифы севера Урала и сопредельных областей//Литология карбонатных пород севера Урала, Пай-Хоя и Тимана. Сыктывкар, 1988. С. 5-21. (Тр. Ин-та геол. Коми науч. центра УрО АН СССР. Вып. 67).
- Малышев Н.А. Тектоника, эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов европейского севера России. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 270 с.