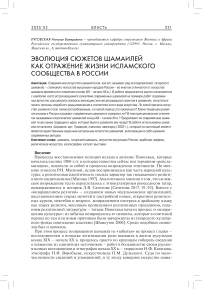Эволюция сюжетов шамаилей как отражение жизни исламского сообщества в России
Автор: Луговская Н.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Современное искусство шамаиля (или, как его называет ряд исследователей, татарского шамаиля) - станкового искусства мусульман народов России - во многом отличается от искусства шамаиля времени его появления (конец XIX - начало XX в.). В работе предлагается кратко ознакомиться с наиболее часто встречающимися сюжетами современных шамаилей на примере работ современных артистов, рассмотреть вопросы эволюции (или же деградации) сюжетов в шамаилях, попытаться понять причины подобного рода изменения в стилистике этого вида искусства. По какой причине искусство шамаиля стало таким востребованным, и в какой период это произошло? Какие тенденции развития ислама в России отражают современные шамаили и отражают ли? В чем принципиальное отличие так называемых классических шамаилей конца XIX - начала XX в.? Продолжают ли современные шамаили те же самые традиции и идеи, которые были в шамаилях век назад? В работе использованы шамаили из каталога «Шамаиль-арт. Традиция, классика, авангард» (2022 г.), который на настоящий момент является единственным изданным актуальным каталогом шамаилей, включающим в себя шамаили современных авторов.
Шамаиль, татарский шамаиль, искусство мусульман России, арабская графика, религиозное искусство, каллиграфия, каталог выставки
Короткий адрес: https://sciup.org/170210319
IDR: 170210319 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-231-236
Текст научной статьи Эволюция сюжетов шамаилей как отражение жизни исламского сообщества в России
Процессы восстановления позиций ислама в регионе Поволжья, которые начались в конце 1980-х гг. и которые известны сейчас под термином «реисламизация», повлекли за собой и процессы возрождения этничности. По мнению этнолога Р.Н. Мусиной, ислам воспринимался как часть народной культуры, а религиозная идентичность носила характер так называемого религиозного национализма [Мусина 1997]. Аналогичного мнения о том, что исламское возрождение тесно переплеталось с этнокультурным ренессансом татар, придерживается и историк Л.В. Сагитова [Сагитова 2017: 91-92]. Вместе с «возвращением религии» – созданием новых мусульманских организаций, восстановлением старых мечетей и постройкой новых, открытием религиозных курсов, мектебов и медресе, возвращением интереса к арабскому языку как языку религии, массовым проведением религиозных праздников, изданием религиозной литературы – татары Поволжья начали процесс и «возвращения культуры»: из забытья возвращались те символы, которые в советский период по тем или иным причинам были вычеркнуты из татарского культурного фонда советскими властями [Шамсутов 2000]. Среди подобных символов был и шамаиль.
При этом процесс возвращения шамаиля из «забытья» не прошел гладко – исследователям в попытке легитимации роли шамаиля в жизни мусульман конца XIX – начала XX в. пришлось просто по крупицам собирать сведения о шамаилях из единичных источников – работ в большинстве своем русскоязычных востоковедов и этнографов начала XX в. – тюрколога Н.Ф. Катанова, этнографа Н.И. Воробьева, искусствоведа П.М. Дульского. Судя по малочисленности сведений и упоминаний, в ту эпоху камерное искусство шама- иля не было востребовано так, как это принято считать сейчас. Историк А.К. Бустанов считает, что изобразительное искусство появилось у татар в XX в.; его роль играла богатейшая традиция письменной книжной культуры.
Однако в настоящий момент многочисленные исследователи присваивают шамаилю роль нациеобразующего искусства. Шамаиль одаривают эпитетами: сыгравший «важную роль в развитии письменности и графики у татарского народа» [Касимов 2016], являющийся «важной частью религиозно-эстетического сознания мусульман» [Мустафин 2022] и т.д. Открываются многочисленные выставки, издаются каталоги, процветает торговля шамаилями, словом «шамаиль» назван образовательный проект, инициированный департаментом культуры Духовного управления мусульман РФ под эгидой муфтия, председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина1.
Подобный процесс не является чем-то новым. Так, британско-американский исламовед Б. Льюис в своей серии лекций History: Remembered, Recovered, Invented , прочитанных им в Принстонском университете в 1975 г., исследовал прошлое и его использование в политических целях на Ближнем Востоке. В аналогичном ключе продолжил и британский историк Э. Хобсбаум: в своей работе «Изобретение традиций» (1983 г.) он развивал идею преднамеренного политического и массового производства традиций. Хобсбаум соотносит традиции и нации – еще одна историческая инновация. Такое «изобретенное прошлое» обеспечивает сплоченность там, где ее раньше не существовало; национальная идентичность создается через выбранные символы, такие как шамаиль, генеалогия которого окольными путями возводится прямо к VIII в. [Шамсутов 2003]. Аналогично и знаменитая триада Б. Андерсона, о которой он говорит в своем труде «Воображаемые сообщества», – карта, перепись, музей» – определяет наиболее типичные средства производства и демонстрации национального единства.
О чем говорят современные шамаили
Современные шамаили вышли на передовую татарской культуры в начале XXI в. Говоря об этом, следует вспомнить дискурс о возвращении религии в публичное пространство, начало которому положила работа Хосе Казановы [Casanova 1994]; этот процесс известен под названием «постсекулярный поворот» [Узланер 2020]. Однако даже при самом беглом визуальном сравнении шамаилей начала XX в. и современных работ ощущается колоссальная разница: при, казалось бы, внешнем сходстве отсутствует ответ на вопрос, чем шамаиль является сейчас. Какие функции он выполняет в современном обществе? Каково их идейное содержание?
В статье будут рассмотрены современные шамаили из каталога выставки «Шамаиль-арт. Традиция, классика, авангард», изданного в 2022 г. Это единственный на настоящий момент изданный современный каталог шама-илей, в котором массово представлены шамаили современных авторов. Каталог делится на несколько частей: «классические» шамаили конца XIX – начала XX в.; шамаили авторства живописца и народного художника СССР Баки Урманче (1897–1990 гг.) и шамаили настоящего времени с выставки «Современное искусство шамаиля: стили и направления».
Однако прежде чем рассматривать искусство шамаиля в статье, нужно дать небольшое пояснение, что такое шамаиль. Р.И. Шамсутов определяет шама-иль как «станковую картину с текстом религиозного содержания или изо- бражением культового сооружения, выполненную различными материалами – тушью или печатным способом на бумаге, в виде вышивки на ткани, масляными красками на стекле или холсте» [Шамсутов 2003]. Ф.Ф. Гилемшин определяет шамаили как «полотна со стилизованными изображениями, узорами, надписями или знаками, чаще всего имеющими одновременно сакральное и художественное значение» [Гилемшин 2017]; А.М. Ахунов – как «настенные панно с изображением святых мест и мечетей, а также изречений из Корана, афоризмов, фрагментов поэтических произведений» [Ахунов 2007]. Здесь возникает некоторая трудность: как называть те виды шамаилей, которые не несли в себе тексты религиозного содержания? Какого рода тексты мы относим к религиозным? Как определяется сакральность значения шамаиля? Почему авторы относят картины с изображениями Стамбула и Дамаска к изображениям святых мест? Можно ли считать изображение мечети, обрамленное арабским текстом но выполненное в современном графическом редакторе, шамаилем? Стоит отметить, что «религиозность» шамаилей или их обязательная привязка к «духовному началу» – это ярлык, который современные исследователи шамаиля навешивают на этот вид искусства, несправедливо полагая: если это делали наши предки, они делали это из религиозных соображений [Касимов 2016; Мустафин 2022].
Но так ли это? Несомненно, часть шамаилей – например те, которые воспроизводят коранические аяты, являются религиозным искусством; но как насчет шамаилей, в которых содержатся тексты иного характера? Таким образом, возникает некоторая проблема при определении того, каким искусством является шамаиль1. В шамаиле ислам – это не религия, а культура.
С учетом всех трудностей, под шамаилем в данной статье будут подразумеваться изображения, чьи авторы определяют их как шамаиль, выполненные при помощи любого материала и любым способом, несущие в себе какое угодно значение, без разделения на языки, в них используемые.
Таким образом, в каталоге представлены 34 современных шамаиля. На основании анализа изображений и текстов шамаилей можно отметить следующие тенденции: почти все шамаили (32 из 34) выполнены на арабском языке; аналогично, практически отсутствуют нерелигиозные сюжеты (33 из 34); ушли в небытие сюжеты с изображениями городов; нет исторических, лирических и прочего рода нерелигиозных текстов на шамаилях.
Использование арабского языка является данью традиции; ни один из языков мусульман постсоветского пространства не сохранил арабицу в качестве алфавита. Несомненно, использование арабского языка и арабской письменности в «классических» шамаилях более чем оправданно: до советских языковых реформ арабский язык оставался основным языком книжной культуры мусульман. Русский язык мусульманами фактически не использовался: председатель Оренбургского магометанского духовного собрания Салимгарей Тевкелев в своем воззвании к мусульманам говорил, что «от незнания русского языка происходит большое зло; вы не понимаете предписаний и требований гражданского начальства и довольствуетесь тем, что скажут или захотят вам ваши переводчики: вы лишены многих выгод потому, что даже просить не умеете того, в чем иногда нуждаетесь» [Саматова 2013: 97]. Этот призыв, обнародованный на русском языке, не нашел отклика. Шигабутдин Марджани, татарский историк и этнограф, говорил: «Мы пишем сочинения на арабском, поскольку исходим из того, чтобы наши книги были доступны другим мусульманским народам, которые в большинстве своем знают арабский» [Юзеев, Гимадеев 2009: 30]. Однако в современных шамаилях арабский язык – не инструмент; никакого прочтения эти шамаили не предполагают.
Для кого предназначен язык шамаилей? Стоит отметить, что даже в 1920-е гг. большевики, создавая агитационные плакаты для мусульман, вынуждены были использовать язык тех, кому эти плакаты адресовались. Крупнейший из исследователей шамаилей Р.М. Шамсутов в своей монографии говорит, что поясняющие тексты шамаилей всегда выполнялись на родном языке, были ориентированы на самые широкие слои населения. На кого ориентированы тексты шамаилей сейчас? Несомненно, здесь можно возразить: известные аяты не требуют специальных знаний для прочтения; они служат напоминанием о том, что изложено в Коране. Но не получается ли, что вместо религиозных образов большая часть современных шамаилей – это постмодернистские симулякры этих образов? Или это выражение материальной религиоз-ности1, которое является религиозным маркером для обладателя? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Если в дореволюционный период на тех же казанских шамаилях изображались панорамы городов Стамбула, Дамаска, Мекки; символы, присущие суфийским орденам; назидания на арабском; стихотворения на персидском языке – в общем, весь пласт общемусульманского наследия, то сейчас эти сюжеты попросту исчезли. Нынешние шамаили хотя и сохранили свою ара-бографичность, но потеряли то, что объединяло их предков с мусульманами Османской империи, утратили ту самую концепцию единой мусульманской нации с единой и понятной вне зависимости от границ проживания культурой. Исследователь Джеймс Мейер полагает, что мусульмане, которые постоянно перемещались между двумя империями – Российской и Османской – развивали новые модели самоидентификации. Становление новых моделей идентичности приводило к размытию границ между империями и созданию трансграничных сообществ. Последующие исторические события, закончившиеся крахом двух империй, эти границы вновь образовали, и прежние общемусульманские сюжеты теперь стали частью чужого культурного кода и более не появляются на шамаилях [Meyer 2014].
Заключение
Современный шамаиль все больше напоминает результат процесса производства традиций; он призван символизировать собой национальную культуру, которую начали «переизобретать» мусульмане после распада Советского Союза. Современный шамаиль по большей части безликий: если досоветский шамаиль пестрил сюжетами, языками и текстами, то сюжеты современных шамаилей можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако существует рыночный спрос на то, что является, по сути, маркером национальной идентичности. Подобные маркеры в шамаилях свелись к универсальным, узнаваемым и легко продаваемым концепциям: арабский язык и арабская каллиграфия (непонятные и нечитабельные для абсолютного большинства адресатов); мотивы «Востока» с неотрефлексированной самоориентацией (чего стоит противоречие в сегодняшней повестке, когда, с одной стороны, на современных шамаилях художники изображают женщин в платках и закрашивают черным квадратом лица, а с другой – исследователи восхваляют передовые идеи джадидов и открытость мусульман начала XX в.); следование определенным нормам – неприятие изображений живых существ, практически полное отсутствие «нерелигиозных» текстов. Можно сказать, что современный шама-иль – это постмодернистское искусство российских мусульман при отсутствии искусства модерна. Шамаили «классического» периода отражали самоощущение мусульман России как части мировой уммы – через арабский язык и общеисламские (и, соответственно, понятные всем мусульманам) сюжеты; через вовлечение мусульман России в общемировой процесс «обновления» в исламском мире. Шамаили того периода находились под цензурой имперской власти, однако культурный код, который они в себе несли, нельзя было подвергнуть цензуре. Нынешние шамаили не отражают никаких идей и концепций, кроме хорошо продаваемой идеи «репрезентации».