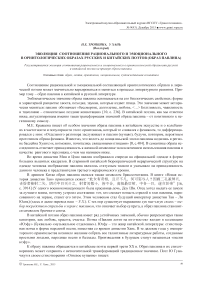Эволюция соотношения рационального и эмоционального в орнитологических образах русских и китайских поэтов (образ павлина)
Автор: Тропкина Надежда Евгеньевна, Хань У
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается эволюция соотношения рационального и эмоционального в орнитологической образности русской и китайской поэзии на примере образа павлина.
Образ, мотив, орнитоним, эмоциональное, художественная семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822428
IDR: 14822428
Текст научной статьи Эволюция соотношения рационального и эмоционального в орнитологических образах русских и китайских поэтов (образ павлина)
Соотношение рациональной и эмоциональной составляющей орнитологических образов в лирической поэзии может значительно варьироваться и меняться в процессе литературного развития. Пример тому – образ павлина в китайской и русской литературе.
Эмблематическое значение образа павлина основывается на его биологических свойствах: форме и характерной расцветке хвоста, походке, звукам, которые издает птица. Это значение может исторически меняться: павлин обозначает «бессмертие, долголетие, любовь. <…> Болтливость, чванливость и тщеславие – относительно поздние коннотации» [10, с. 236]. В китайской поэзии, как мы отметим ниже, актуализирована именно такая трансформация значений образа павлина – от позитивного к негативному смыслу.
М.Е. Кравцова пишет об особом значении образа павлина в китайском искусстве и о колебаниях в частотности и популярности этого орнитонима, который то сливался с фениксом, то дифференцировался с ним: «Отдельного разговора заслуживает и павлин (кунцяо), будучи, повторим, вероятным прототипом образа феникса. Известно, что вплоть до конца иньской эпохи павлины водились в регионе бассейна Хуанхэ и, возможно, почитались священными птицами» [8, с.404]. В семантике образа исследователь отмечает принадлежность к женской символике за исключением использования павлина в качестве рангового персонажа, о чем мы напишем ниже.
Во время династии Мин и Цзин павлин изображался спереди на официальной одежде в форме больших вышитых квадратов. В старинной китайской бюрократической иерархической структуре на одежде человека изображение павлина являлось статусным знаком и указывало на принадлежность данного человека к представителям третьего иерархического уровня.
В древнем Китае образ павлина являлся также символом бракосочетания. В книге «Новая история династии Тан» приводится сюжет: “ 此女有奇相,且 识 不凡,何可妄与人?因画二孔雀屏 间 , 请 昏者使射二矢,阴 约 中目 则许 之。射者 阅 数十,皆不合。高祖最后射,中各一目,遂 归 於帝” [16, с. 3914] (У одного военнокомандующего была красавица-дочь, Доу Ши. Отец хотел выдать ее замуж за лучшего воина, поэтому устроил состязание: тот, кто сможет попасть стрелой в глаз павлина, нарисованного на экране, станет его зятем. Этим человеком стал будущий император династии Тан – Ли Юань) (здесь и далее перевод наш – У.Х. ). С тех пор существует выражение кун пин чжун сюань – выбор посредством стрельбы в экран с павлином , что означает выбор супруга, а образ павлина становится символом брачного союза.
В китайской поэзии образ павлина имеет ряд устойчивых значений, обычно репрезентируя такие категории, как любовь, красота, счастье. Поэма «Павлин летит на юго-восток» входит в коллекцию «Юэфу» (буквально «музыкальное отделение»). Юэфу – это жанр китайской литературы: стихотворная поэма в форме народной песни, известная со времен династии Хань. В те далекие годы у императорского правительства возникло желание собрать все талантливые литературные работы, созданные простыми людьми, народные песни и баллады. Произведения в будущем станут называться «песни юэфу».
К образу павлина обращаются и китайские поэты первой трети XX в. Образ павлина в их стихотворениях может сохранять с незначительной трансформацией традиционное значение. Поэт Ю Гуан-чжун в своем стихотворении «Огневое купание» пишет:
На жарком востоке живет один феникс,
Из огня рождался, и наконец вернулся в огонь.
Огонь – место, через которое храбрец должен пройти.
<...>
Белый павлин, лебедь, журавль
Белая одежда, белые перья,
Остановилось время,
Там обитает отшельник.
В данном стихотворении образ феникса и образ павлина символизируют людей, у которых различные жизненные позиции и поведение. Образ феникса символизирует активного, смелого, пылкого человека, образ павлина – хладнокровного, бесстрастного, как отшельник. Симпатии автора явно на стороне феникса.
Однако чаще значение образа павлина у китайских поэтов первой трети ХХ в. трансформируется, орнитоним приобретает сатирический смысл. Пример тому – стихотворение «Два мира», его автор Му Дань. Произведение носит остро социальный характер, в нем использован прием противопоставления:
Смотри, она наряжается как красивый павлин –
Цветные перья с белыми кружевами,
Розовое платье в толпе волочится,
Радостное сердце по небу волочится.
Красота приводит ее в безумный восторг,
Вызвать овации – это ее желание;
«Благородство, слава, репутация – вот ее мир!»
<...>
В чане руки женщина отмачивала целый день,
Она с опухшими руками, головокружением, усталым телом,
В темноте пришла домой и грустно вздыхала…
Жизнь перемалывает человека в грязь! [17, с.55]
В данном стихотворении Му Дань сопоставил двух женщин: первая женщина красивая, как «павлин», а вторая – бедная, больная. Здесь образ павлина – сатирическая аллегория социально и нравственно порочного человека.
Близкое к этому значение имеет образ павлина в поэме Го Мо-жо «Нирвана Фениксов».
Павлин:
Ага, фениксы! Фениксы!
Напрасно вы прикинулись владыками пернатых!
Вы умерли? Вы умерли?
Отныне все любуются только моим хвостом павлиньим!
В европейском искусстве также содержится обращение к образу павлина. В античной традиции павлин – священная птица Геры (Юноны), которая, согласно мифу, одарила его тысячей глаз погибшего великана Аргуса. В Древнем Риме птицей императора считался орел, а птицей императрицы и ее дочерей был именно павлин [7, с. 469]. Это проявлялось и в более поздние эпохи: «Павлиний хвост, в частности, появляется в восемьдесят четвертой эмблеме “Символического искусства” Босха в качестве символа смешения всех цветов, а также идеи целого. Этим объясняется, почему в христианском искусстве он выступает как символ бессмертия и нетленной души» [6, с. 379].
В русской поэзии образ павлина встречается не так уж часто по сравнению с другими орнитони-мами. В русской лирике XVIII – XIX вв. актуализируется не столько красота птицы, сколько ее непри- ятный крик. В ряде стихотворений отмечено и то, и другое в противопоставлении, например, в стихотворении Г. Державина 1791 г.описывается красота павлина, а финал, когда раздается голос павлина, придает тексту аллегорически-сатирический смысл:
Но что за чудное явленье?
Я слышу некий странный визг!
Сей Феникс опустил вдруг перья,
Увидя гнусность ног своих.
О пышность! как ты ослепляешь!
И барин без ума – павлин. [5, с.161]
Павлин как аллегорический персонаж встречается в басне И. Крылова «Павлин и соловей», где предметом авторского изображения также оказывается контраст между внешней красотой и звуками, напоминающими мяуканье кошек. Авторская мораль – глупо голоса по перьям выбирать , что переносится на человеческие качества. Оба произведения, Г. Державина и И. Крылова, обращены не столько остросоциальным, сколько к нравственным темам, однако значение образа павлина в них далеко от его значения в классической китайской традиции и близко к трансформации смысла орнитонима в китайской поэзии первой трети ХХ в.
В русской поэзии первой трети прошлого столетия, как и в искусстве в целом, активизируется интерес к образу павлина. Художественным фоном к этой активизации стала эпоха европейского модерна, когда изображение павлина является весьма распространенным, становится одним из символов «Нового стиля», устойчивым элементом в разных видах искусства, включая живопись, архитектуру, дизайн, произведения массовой культуры.
В русской поэзии в конце XIX – начале ХХ вв. к образу павлина обращались поэты-символисты К. Бальмонт, Д. Мережковский, А. Блок. В стихотворении Д. Мережковского «Когда вступал я в жизнь, мне рисовалось счастье», датированном 1885 г., образ павлина – атрибут воображаемой прекрасной картины мира, которая рисуется романтически настроенному лирическому «я»:
Толпу нарядных жен баюкали гондолы,
Роняя за собой над зеркалом прудов
То складки бархата и звуки баркаролы,
То вздохи мандолин и лепестки цветов.
На гладких лестницах из черного агата
Павлины нежились, и в чудные цвета
Окрашивался блеск их пышного хвоста;
И всюду – музыка и волны аромата,
И надо всем любовь, любовь и красота. [13]
В стихотворении А. Блока «Комета» (датировано сентябрем 1910 г.) атрибутом современного суетного мира является хвост павлина:
Наш мир, раскинув хвост павлиний,
Как ты, исполнен буйством грез:
Через Симплон, моря, пустыни,
Сквозь алый вихрь небесных роз,
Сквозь ночь, сквозь мглу – стремят отныне
Полет – стада стальных стрекоз! [2, с. 95]
Картина трагической гибели мира, предвестием которой становится комета, не позволяет увидеть в образе павлина лишь узкоморализаторский смысл, в тексте имплицитно содержится мысль о хрупкости сущего, символом которого являются птицы и стрекозы.
А. Ахматова, Н. Гумилев, А. Блок, О. Мандельштам, В. Маяковский. Однако смысл образа данной птицы в русской и в китайской поэзии этого периода по преимуществу различен. В русской поэзии первой трети ХХ века художественный смысл образ павлина отталкивается от традиции его семантики в русской поэзии XVIII – XIX вв. Павлин становится экзотизмом, которые столь характерны для русской лирики этого периода [14; 15]. В стихотворении Г. Гумилева «Рассвет» из сборника стихов «Романтические цветы» павлин символизирует красоту – высокую, холодную, чуждую людям:
<…………………………………………….>
И погасли изумруды Змея
И Павлина веерное диво.
Что нам в бледном утреннем обмане?
И Павлин, и Змей – чужие людям.
Вот они растаяли в тумане,
И мы больше видеть их не будем. [4, с.83–84]
В датированном 9 ноября 1910 г. стихотворении А. Ахматовой «Он любил…», в котором речь идет о Н.С. Гумилеве, упоминание белых павлинов является емкой характеристикой героя:
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой. [1, с. 36]
Смысл орнитонима можно интерпретировать в нем по-разному, нам кажется, что белые павлины здесь, наряду со стертыми картами Америки, воссоздают образ путешественника, эстета, любителя экзотики и вместе с тем приверженца традиций. Б.М. Гаспаров пишет: «В стихотворении Ахматовой прошедшее время первоначально имело лишь чисто стилистическое значение, придавая повествованию «эпическую» интонацию; однако ретроспективно, после гибели Гумилева, этот прием сообщил стихотворению характер воспоминания об умершем» [3, с. 175]. В русле этой семантики и нового ореола, который образ павлина обретает в прозе и публицистике революционных лет, орнитологический образ получает новый смысл: прекрасное, ставшее жертвой жестокого века. Более детальное рассмотрение этой темы выходит за рамки нашего исследования.
Характерна художественная семантика образа «павлиньего крика» в стихотворении О. Мандельштама «Концерт на вокзале» (1921 г.):
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон. [11, с. 139]
Необходимо упомянуть и еще одно обращение к образу павлина в русской поэзии первых десятилетий ХХ в. – стихотворение В. Маяковского «Гимн судье»:
Попал павлин оранжево-синий под глаз его строгий, как пост, - и вылинял моментально павлиний великолепный хвост! [12, с. 66]
В этом стихотворении В.В. Маяковского, имеющем сатирический смысл, павлин является не предметом осмеяния, а жертвой чиновника – судьи.
Подводя итог, можно сказать, что в русской и китайской поэзии прослеживается динамика соотношения рационального и эмоционального в художественной семантике образа павлина. Орнитоним как рациональная аллегория характерен для творчества китайских поэтов первой трети ХХ в., с одной стороны, и для творчества русских поэтов XVIII – начала XIX вв. с присущим для классицизма рационализмом – с другой. В русской лирике первой трети ХХ в. образ павлина наполняется новым смыслом, в котором преобладает эмоциональное или мистическое начало.
Список литературы Эволюция соотношения рационального и эмоционального в орнитологических образах русских и китайских поэтов (образ павлина)
- Ахматова А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Стихотворения. 1904-1941. М.: Эллис Лак, 1998.
- Блок А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т.III. Стихотворения. Книга третья (1907-1916). М.: Наука, 1997.
- Гаспаров Б.М. О функции подтекста в поэтическом тексте («Концерт на вокзале»)//Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. С.162-186.
- Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. -Л.: Советский писатель, 1988. -632 с. (Б-ка поэта. Большая серия).
- Державин. Г. Р. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1957.
- Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов. М.: «REFL-book»,1994.
- Королев К.М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: Изд-во «Мидгард. Эксмо», 2005.
- Кравцова Кравцова М.Е. История искусства Китая. М.: Лань, Триада, 2004.
- Кружков Г. Крик павлина и конец эстетической эпохи: О «тройном созвучии» у Мандельштама, Йетса и Стивенса//Ностальгия обелисков. Литературные мечтания М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.323-334.
- Купер Дж. Энциклопедия символов. М.: Ассоциация Духовного Единения «Золотой век», 1995.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т.1. Стихотворения. Переводы. М.: Худож. лит., 1990.
- Маяковский В. В. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 1. -М.: Правда, 1978.
- Мережковский Д.С. Стихотворения, поэмы, переводы поэзии. . URL: http://merezhkovsky.ru/lib/poetry.
- Фаустов А.А. Венок из орхидей (об одном экзотизме в русской литературе рубежа XIX -XX вв.)//Восток -Запад в пространстве русской литературы и фольклора: материалы Третьей Междунар. науч. конф. (заоч.). 19 нояб. 2008 г. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2009. С. 207-215.
- Фаустов А.А. Экзотическое и его семантика в русской литературе начала XX в. Филологические записки//Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 27. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2008. С.31-43.
- 北京:中华书局,1975.(Оуян Сю. Новая история династии Тан/Оуян Сю. Пекин: Китайское издательство, 1975.)
- 北京:人民文学出版社,2014. (Му Дань. Сборник Му Дань. -Пекин: Народное литературное издательство, 2014.)