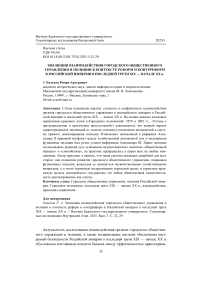Эволюция взаимодействия городского общественного управления и полиции в контексте реформ и контрреформ в Российской империи в последней трети XIX — начале XX в.
Автор: Евтехов Р.А.
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сложного и конфликтного взаимодействия органов городского общественного управления и полицейского аппарата в Российской империи в последней трети XIX — начале XX в. На основе анализа ключевых нормативно-правовых актов («Городовых положений» 1870 и 1892 гг., «Устава о предупреждении и пресечении преступлений») доказывается, что данный период характеризовался эволюцией от модели условного разделения полномочий к системе прямого доминирования полиции. Изначально заложенный в реформах Александра II правовой конфликт между хозяйственной автономией дум и надзорными функциями полиции был резко усилен реформами Александра III. Право полиции согласовывать решения дум, основанное на расплывчатых понятиях «общественный порядок» и «спокойствие», на практике превращалось в право вето на любые инициативы. Автор приходит к выводу, что такая система оказалась ущербной для всех сторон: она подавляла развитие городского общественного управления, извращала функционал полиции, вынуждая ее заниматься несвойственными хозяйственными вопросами, а в итоге тормозила модернизацию городской среды и укрепляла архаичную модель полицейского государства, где любая общественная самостоятельность рассматривалась как угроза.
Городское общественное управление, полиция Российской империи, Городовое положение, последняя треть XIX — начало XX в., взаимодействие, принципы управления
Короткий адрес: https://sciup.org/148332048
IDR: 148332048 | УДК: 94(54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-3-22-29
Текст научной статьи Эволюция взаимодействия городского общественного управления и полиции в контексте реформ и контрреформ в Российской империи в последней трети XIX — начале XX в.
Евтехов Р. А. Эволюция взаимодействия городского общественного управления и полиции в контексте реформ и контрреформ в Российской империи в последней трети XIX — начале XX в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 3. С. 22–29.
Актуальность исследования взаимодействия органов городского общественного управления и полиции, а также модернизации системы обеспечения внутренней безопасности Российской империи в последней трети XIX — начале XX в. обусловлена постоянным поиском баланса между эффективностью правоохрани- тельных органов, их полномочиями и свободами граждан. Опыт реорганизации полиции в эпоху масштабных социально-экономических преобразований России не только демонстрирует классический конфликт между началом общественной самостоятельности и государственной опеки, т. е. фундаментальный конфликт между двумя принципами управления: децентрализацией и общественной инициативой, с одной стороны, и централизацией и контролем, с другой, но и представляет значительный интерес для понимания закономерностей развития государственных институтов и их адаптивности к вызовам времени.
Историография вопроса обширна и берет свое начало в XIX в., включает работы дореволюционных юристов и государствоведов [3; 9], в ХХ в. проблема традиционно рассматривалась в рамках более широких исследований о городских реформах [1; 6] или истории полицейских учреждений [2; 4], т. е. большинство научных публикаций этого времени исследовало конфликт либо с позиции «сверху» — через призму государственного управления и полицейских реформ, либо «снизу» — через историю земского и городского движения. Постсоветские историки [8; 9; 10] анализируют полицейскую систему с позиций ее организации, функций и роли в государственном аппарате. Современная стратегия в этой проблематике чаще всего реализуется с позиций системного подхода, синтезирующего два параллельных процесса в одну систему с внутренними противоречиями. Наш ключевой тезис заключается в том, что российская власть в результате проведенных мероприятий последней трети XIX — начала XX в. так и не смогла решить ключевую задачу своего времени: строительство европейского благоустроенного городского пространства (дело думы) при сохранении консервативных методов управления и тотальный надзор (дело полиции).
Задавшись целью анализа эволюции сложных и противоречивых отношений между институтами городского общественного управления и полицией как главным агентом государственной власти на местах, мы обратились к изучению ключевых нормативно-правовых актов указанного периода: указ «Об утверждении временных правил по устройству полиции», «Устав предупреждения и пресечения преступлений» в различных редакциях, «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», «Городовые положения», специальных актов для Сибири (указ «О преобразовании полиции в Сибири»), а также архивных материалов заседаний городских дум и переписки городских голов с учреждениями полиции. Причем сравнение стержневых документов эпохи («Городовое положение», «Устав о предупреждении и пресечении преступлений») убедительно доказывает, что законодатель изначально закладывал в систему правовой конфликт. Права думы на управление хозяйством декларировались, но тут же нейтрализовались статьями о согласовании с полицией. Это не было случайностью или недоработкой; это была продуманная система «сдержек», где полиция всегда играла роль заградительного барьера применительно к любой общественной инициативе.
Переломным моментом в деятельности системы обеспечения внутренней безопасности империи стала крестьянская реформа 1861 г. Изменение основ общественного устройства привело в движение всю систему, подстегнуло оживление политической и экономической активности и как следствие ломку старых институциональных порядков. Отмена крепостного права не только освободила огромные массы населения от личной и экономической зависимости, но и поставила вопрос о новых условиях деятельности судебно-полицейской системы, поскольку помещики, ранее являвшиеся одновременно и полицейскими, и судьями для своих крепостных, утратили эти функции. Чтобы компенсировать потерю контроля, 25 декабря 1862 г. был принят указ «Об утверждении временных правил по устройству полиции в губерниях, управляемых по общему учреждению»1, который, однако, не коснулся Сибири. Главным изменением стало соединение земской и городской полиции в единое уездное полицейское управление. Формально полиция была освобождена от многочисленных хозяйственных функций, но с течением времени почти все они возвращены. Учитывая, что за пару десятилетий после отмены крепостного права города сильно возросли, появились организации и институты, которых ранее не было, сильно возросла и нагрузка полиции. Впоследствии сохранение численности штатной системы полиции, формальный ее перевод в уездные управления и урезание штата городских полиций привели к полной деформации городского благочиния. Дополняют картину военная реформа и переход к всеобщей воинской обязанности, что окончательно перевело комплектование полиции с военных кадров на вольный наем. Сибирь, находившаяся на особом положении, была охвачена преобразованиями позже, специальным указом от 12 июня 1867 г. «О преобразовании полиции в Сибири»2, который в целом повторял структуру европейской части страны. Однако для Сибири комплектация военными сохранилась вплоть до распада империи.
Либеральные начала реформ Александра II нашли отражение в «Городовом положении» 1870 г.3, передавшем ряд хозяйственных функций (наблюдение за благоустройством) городскому общественному управлению, хотя полиция сохранила право согласования важнейших мероприятий (ст. 105, 106). Основным документом, определявшим компетенцию полиции вплоть до 1917 г., стал «Устав предупреждения и пресечения преступлений»4. Он предписывал полиции вникать во все происшествия общественной и государственной жизни, наделяя ее максимально широкими полномочиями. Городской закон в статье 6 постулирует обязанность правительственных и иных учреждений оказывать содействие органам городского общественного управления, а губернское по городским де- лам присутствие разъясняло полицейскому управлению, отказавшемуся от объявления решений местного городского общественного управления частным лицам, что полиция не может не исполнить такие обращения по двум причинам: во-первых, потому что это прямая обязанность полиции, а, во-вторых, потому что это законное право городских властей [5]. Устав не только регламентировал борьбу с преступлениями, но и подробно регулировал общественную и частную жизнь, включая ношение оружия, соблюдение религиозных обрядов, запрет на пьянство и нищенство.
Консервативный поворот при Александре III привел к дальнейшему расширению полномочий полиции. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 1881 г.1 предоставило ей право закрывать собрания и торговые заведения, арестовывать тиражи типографий и высылать неблагонадежных лиц. «Городовое положение» 1892 г. 2 существенно ограничило самостоятельность городского общественного управления, обязав думу согласовывать множество вопросов (пожарная охрана, санитарные нормы) с полицией, что усилило ее надзорные функции и роль барьера для развития самоуправления. Даже прежний устав о пресечении преступлений получил новую характерную статью, отражающую консервативный дух системы, статью 129, предписывавшую пресекать «всякую новизну».
Изначально «Городовое положение» 1870 г., даровавшее городам достаточно широкое самоуправление, провело условную границу: хозяйственнораспорядительные функции (благоустройство, коммуникации, санитария) передавались городским думам и управам, в то время как полиция сохраняла за собой обширные надзорные и контрольные полномочия. Однако уже в этой редакции были заложены все условия для конфликта: многие важнейшие хозяйственные инициативы думы (например, отведение территорий для ярмарок, вопросы застройки, правила торговли) требовали обязательного согласования с полицейским управлением, а в случае невозможности городскими властями сбора определенных сведений о стоимости продуктов питания, съемных квартир, стройматериалов, рабочей силы и т. д. (ст. 72) они могли обратиться в полицейское управление [5]. Таким образом, полиция, будучи формально исключенной из непосредственного ведения хозяйством, получила мощный рычаг влияния на деятельность самоуправления через право безосновательного вето, обосновываемого соображениями «общественного порядка и спокойствия».
Этот конфликт интересов резко обострился в эпоху реформ Александра III. «Городовое положение» 1892 г. стало инструментом системного ограничения самостоятельности городских органов. Империя избрала контроль вместо развития. Полиции возвращены функции «главной хозяйки» городов как главного контрольного и сдерживающего института. Многие вопросы, которые ранее дума могла решать самостоятельно, теперь подлежали обязательному согласованию с полицией. Это касалось не только традиционных сфер соблюдения правил торговли, но и таких сугубо хозяйственных дел, как противопожарные меры и санитарный надзор. Фактически полиция становилась выше городской думы, получив право надзирать за точным исполнением ею же самой одобренных постановлений.
На практике это приводило к парадоксальным ситуациям. Например, городская управа, отвечающая за чистоту улиц, не могла самостоятельно принять обязательное постановление о вывозе мусора — оно требовало одобрения полиции, которая оценивала его не с точки зрения надобности, а сквозь призму возможных «беспорядков» или недовольства обывателей. Полиция дублировала функции городских участковых попечителей, что вело к размытию ответственности и административной путанице. Кроме того, полиции возвращались обязанности содействовать взиманию городских налогов и недоимок, как когда-то в XVIII в. Возвращение сильно устаревших институциональных практик в кардинально изменившееся общество стерло грань между надзорной ролью полиции и прямым вмешательством в хозяйственные дела, превращая полицейского чиновника в дополнение ко всему в сборщика податей и исполнителя распоряжений городской управы, что противоречило его основному предназначению.
Ключевой проблемой во взаимоотношениях между органами городского самоуправления и полицией в пореформенный период являлась намеренная размытость законодательных формулировок, определявших границы их компетенции и поле взаимодействия. Такие основополагающие для полицейского права понятия, как «общественный порядок», «благочиние» и «общественное спокойствие», которые служили юридическим основанием для вмешательства полиции в деятельность дум, не имели четкого нормативного определения. Их содержание намеренно оставалось расплывчатым и открытым для максимально широкого толкования. Эта законодательная неопределенность была не недостатком, а сознательной политикой власти, стремившейся сохранить контроль над любой местной инициативой.
Подобная правовая неконкретность создавала почву для произвольного и зачастую предвзятого применения полицейских полномочий. Любое начинание городской думы, будь то сугубо технический проект по прокладке нового водопровода или трамвайной линии, организация народной библиотеки, воскресных чтений или открытие нового учебного заведения, могло быть приостановлено или полностью заблокировано под предлогом «нарушения общественного спокойствия» или «сомнений в благонадежности». Такое положение дел не позволяло обществу построить внятную стратегию взаимодействия с властью. Любое решение фактически становилось прихотью местных полицейских «князьков» и отбивало перспективы хотя бы какого-то внятного диалога общества и государства.
Полицейское управление, будучи составной частью жесткой исполнительной вертикали и находясь в прямом подчинении у губернатора, по своей инсти- туциональной природе занимало консервативно-охранительную позицию. Любое проявление самостоятельности, любая «новизна», исходящая от общественного учреждения, воспринималась им как потенциальный вызов существующему порядку и, следовательно, как угроза. Угроза даже не всегда прямая, ведь, находясь внутри строго формализованной вертикальной иерархии с достаточно конкретными охранительными установками, любой полицейский начальник, принимавший решение по делам самоуправления, сталкиваясь с новой инициативой, предпочитал ее запретить, что для него самого было в аппаратном смысле более безопасно, чем обратное. В результате предоставленное полиции право согласования решений думы на деле трансформировалось в ее фактическое право запрета.
Это системное противоречие имело глубоко деструктивные последствия для развития городского самоуправления в России. Наиболее активные, образованные и прогрессивно мыслящие гласные, избранные в думы, особенно первых созывов, очень быстро сталкивались со стеной административного саботажа и недобросовестного толкования законов. Их энергия и желание работать, которые должны были быть направлены на решение насущных проблем городского благоустройства, здравоохранения и образования, тратились впустую в изматывающей и, как правило, бесплодной борьбе с полицейско-бюрократическим аппаратом. Это закономерно вело к массовой апатии и разочарованию среди наиболее ценных кадров местного общественного управления. Многие из них, не видя возможности реализовать свои проекты, попросту отходили от дел. Таким образом, размытость законодательных дефиниций служила эффективным инструментом не только для блокирования конкретных инициатив, но и для системного подавления самого духа общественной самостоятельности, что в конечном итоге тормозило социально-экономическое развитие российских городов и консервировало архаичные модели управления.
В заключение следует констатировать, что взаимодействие городского самоуправления и полиции в рассматриваемый период эволюционировало от модели условного разделения функций (хозяйство и надзор) при сохранении контрольных полномочий полиции к модели прямого административного доминирования полицейского аппарата над органами самоуправления. Государственная власть, столкнувшись с ростом общественной активности и усложнением социальной структуры, не доверяя полностью «общественным» институтам, использовала полицию в качестве надежного затворяющего механизма, предпочитая контроль развитию. Это привело к законодательному закреплению несоразмерно широкой, всеобъемлющей компетенции полиции, никак не ограниченной механизмами гражданского контроля. Фактически полиция оставалась главным местным исполнительным органом, принимавшим участие во всех сферах жизни, от составления отчетности до производства дознания, и обладавшим внесудебными полномочиями. Это не только подавляло самостоятельную инициативу городов, но и извращало саму суть полиции, вынуждая ее заниматься несвойственными хозяйственными и фискальными функциями. Подчинение во- просов благоустройства, санитарии и развития города логике «охраны спокойствия» становилось тормозом для урбанизации и модернизации городской среды.
Таким образом, соотнесение нормативной рамки взаимодействия полиции и городского самоуправления показывает, что основной конфликт заключался не в простом соперничестве ведомств, а в фундаментальном противоречии между курсом на развитие общественной самодеятельности и устойчивой традицией полицейского государства, где любая инициатива и самостоятельность рассматривались как потенциальная угроза. В конечном итоге, выигравших в этом конфликте не может быть, созданная и реализованная модель не смогла эффективно решать задачи ни развития, ни контроля. Для городского общественного управления подобное взаимодействие стало причиной его хронической слабости и не-автономности. Городское управление так и не стало инструментом формирования кадров для русской буржуазии и гражданского общества. Полиция превратилась в надсмотрщика за законопослушными городскими управами и сборщика налогов, что дискредитировало ее в глазах населения и размывало профессиональную идентичность. Государство, забрав в свои руки полный контроль над затворяющими механизмами общественной инициативы, одержало не столько временную победу, сколько взвалило на себя всю полноту ответственности за проблемы и неудачи городского развития, лишив себя буфера в лице самостоятельных местных элит.