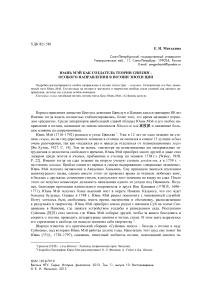Юань Мэй как создатель теории синлин – особого направления в поэзии эпохи цин
Автор: Митькина Евгения Иосифовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Подробно рассматривается особое направление в поэзии эпохи Цин – «синлин». Основателем его был знаменитый поэт Юань Мэй. Его взгляды на поэзию в частности и творчество вообще стали основой для данного направления, поэтому имуделеноособоевнимание.
Китайская поэзия, поэзия эпохи цин, юаньмэй, "суйюань шихуа"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737659
IDR: 14737659 | УДК: 821.581
Текст научной статьи Юань Мэй как создатель теории синлин – особого направления в поэзии эпохи цин
Широко известен его критический сборник «Суйюань шихуа – беседы о поэзии в саду Суйюань», над которым Юань Мэй работал долгие годы. Напечатать этот труд ему помог Би Юань (毕沅, 1730–1797), сановник, известный любитель поэзии, помогавший многим та- лантливым молодым людям. В письме 1788 г. Юань Мэй благодарит его за материальную помощь в издании книги.
Начиная с XI в. написаны сотни книг под название «Беседы о поэзии» ( 诗话 , шихуа). По стилю они информативны, иногда занимательны, сюжеты разнообразны – это и рассказы о поэтах, и споры о стилях, и фрагменты из автобиографий, и размышления об истинной природе поэзии. В этом аспекте «Беседы о поэзии в саду Суйюань» следовали традиции – как правило, сначала давалась интересная история, за которой следовало стихотворение. Однако Юань Мэй часто трактует название жанра «Беседы о поэзии» довольно широко. Порой он просто помещает забавный эпизод без стиха, а иногда – просто стих без какой-либо истории. В отдельных главах (особенно в 15-м цзюане) истории выделяются научностью, а часть из них скорее подходит для жанра « суйби » ( 随笔 , прозаические эссе). В книге есть несколько заметок о древних поэтах, но в основном Юань Мэй писал о своих современниках. В книге много автобиографических деталей, так что она может служить источником сведений о жизни самого Юань Мэя.
В сборнике описан труд редактора-составителя подобного рода бесед о поэзии или поэтических антологий. «Редактор, отбирая стихи современных поэтов, часто совершает семь основных ошибок; это не касается тех, кто решил заработать на редактировании. Каждое полное собрание сочинений отражает уникальный стиль автора, поэтому, только прочитав все, можно отобрать лучшее для сборника; если из полного собрания отобрать не характерные сочинения, то это будет подобно рассматриванию неба через коленце бамбука или измерению количества морской воды черпаком из тыквы-горлянки, это ошибка поверхностного взгляда – первый тип ошибки.
Среди более трехсот стихов “Шицзина” есть... любые типы. С ограниченным кругозором оценивать величину многочисленных талантов, не исследовать взлеты, падения, эволюцию разных течений и обществ, а мерить произведения других людей по своей мерке – подобно тому, как взяв свой башмак за образец, человек отрежет ступню другому, чтоб башмак подошел. И это вторая ошибка.
Четко разделять танскую и сунскую поэзию, поклоняться Ду Фу или уважать Хань Юя, про не связанные друг с другом стихи говорить, что это стиль великого мастера, при этом не умея назвать, что в них хорошо, а что плохо, и выбрать лучшее – это третья ошибка.
Постоянно считать основным критерием этические нормы трех устоев и пяти незыблемых правил, считать хвалебные, сатирические стихи, стихи, содержащие в себе советы и уговоры, не имеющими отношения к моральным установкам, и поэтому недостойными быть отобранными в сборник, и при этом не понимать, как все эти стихи о дарении пионов и сборе орхидей связаны с моралью... – это четвертая ошибка.
Желание создать большой сборник, полагая, что из всех провинций и уездов следует отобрать хотя бы несколько поэтов, что приводит к сбору через силу, а из-за этого снижается планка отбора, – пятая ошибка.
Талант некоторых редакторов во многом уступает таланту поэта, однако они исправляют изначальные произведения, в результате “прикасаясь к золоту, превращают его в железо”, то есть превращают хорошие стихи в плохие. Это – шестая ошибка.
Поддаваться дружеским чувствам, соглашаться на просьбы других – это седьмая ошибка. И я, когда составлял “Беседы о поэзии”, не смог избежать этой последней ошибки» [Юань Мэй, 2008. С. 127].
Особая ценность «Бесед» состоит в том, что в них автор высказывает свое видение того, что такое поэзия, как она должна развиваться далее; даже если приводятся высказывания о поэзии других людей, как правило, те мнения, с которыми он согласен. Юань Мэй считал литературу самоценной, она не должна быть подспорьем в моральном воспитании, она не должна напрямую имитировать старых прославленных мастеров. Литература в целом и поэзия в частности не может называться «великой» только из-за того, что в ее произведениях цитируются отдельные фразы и даже целые отрывки из классиков. Это, прежде всего, выражение характера и эмоций поэта, и в общих рамках единых, выработанных годами форм стихотворений поэту следует искать свои собственные фразы и идиомы.
Для Юань Мэя поэзия – отражение индивидуальности автора, выражение его чувств и переживаний. Он возражал против всяких подражаний древним и считал, что в поэзии должны свободно выражаться эмоции, в первую очередь проявляться личность поэта. Ему принадлежит концепция синлин (性灵) – «естественность и одухотворенность». Школа синлин 性灵派 (синлин пай, или 性灵说 синлин шо) – это другое название школы Юань Мэя, отражающее основную концепцию творчества.
Его поэтика берет начало в идеях школы гунъань , является ее продолжением, причем более развитым и популярным. Школа гунъань была основана тремя братьями Юань в конце династии Мин в период правления под девизом Ваньли (1573–1620). Так как братья были родом из уезда Гунъань ( 公安 ), то и школу назвали гунъань пай 公安派 . Важнее всего для этого направления была индивидуальность. Оно ориентировалось на новые ценности, в числе которых была личная свобода, что необычно для XVI – начала XVII в. Главной установкой было утверждение о ненужности строго следовать традициям и слепо копировать слова и фразы старых произведений. Основные положения школы гунъань следующие: во-первых, протест против переписывания текстов древних, чуткое реагирование на изменения в жизни; во-вторых, описание только духа, чувства – синлин (они также употребляли термин, который впоследствии станет «визитной карточкой» Юань Мэя); в-третьих, поощрение популярной литературы (за это они подвергались особенно серьезным нападкам, что не помешало сыграть определенную роль в популяризации простонародной литературы). Известно, что Юань Мэй интересовался творчеством братьев Юань, хотя и не со всеми их положениями соглашался.
Основной концепцией его собственной школы стала идея о том, что нормы стихосложения – лишь форма, которая служит выражению чувств. Ничего страшного, если эта форма будет не вполне соответствовать установленным прежними поэтами нормам. А человек, даже строго следующий основам стихосложения, но не вкладывающий в свои произведения душу, напишет ничего не стоящие стихи. Юань Мэй ставил душу стихотворения на первое место. Однако многим литераторам было сложно принять эти новые идеи, которые отличались от традиционных эстетических представлений.
Идея о том, что литература не имеет иной ценности, кроме как «проводника» моральных наставлений ( 文以载道 вэнь и цзай дао ), была частью ортодоксального конфуцианства. Мысль же о том, что у литературы есть собственный путь, также существовала на протяжении столетий, но была не так сильна; ее сторонники не оформляли своих взгляды в единую систему. Мнение о возможности и даже необходимости независимого существования литературы не было доминирующим среди писателей, политиков или учителей.
Общепринятая вера в необходимость для литературы быть поучительной переплеталась с другими идеями, например, о том, что поэты должны подражать поэзии эпохи Тан (особенно VIII в.). Однако Юань Мэй полагал, что «не стоит слепо копировать произведения мастеров прошлых поколений. Надо “отбирать лучшее и предлагать новое”… Ничто не может не содержать в себе недостатки, это касается и поэзии. Если учиться на ханьских и вэйских литературных сборниках, то их стиль может показаться слишком фальшивым; литературный стиль Ли Бо, Ду Фу, Хань Юя, Су Ши кажется примитивным, грубым; стиль Ван Вэя, Мэн Цзяо, Вэй Чжуана, Лю Цзунъюаня слаб, а недостатки литературного стиля Юань Чжэня, Бо Цзюйи, Лу Ю в их поверхностности, легкомысленности; поэзия Вэнь Тинцзюня, Ли Шанъи-ня, Хань Во слишком слаба. Следует выбирать из поэзии старых мастеров все самое лучшее, отбрасывая при этом недостатки» [Юань Мэй, 2008. С. 39]. Таким образом, он ратовал за осознанное, а не слепое подражание древним. «Исключительно уподобляясь древним людям, / Где положу место для “я”?» – спрашивал он в своем «Продолжении Категорий стихотворений» [Юань Мэй, 1977. С. 26].
В цинское время перед поэтами остро стояла проблема самоидентификации. Несколько тысячелетий поэтической традиции не могли не оказывать морального давления на людей творческих, таких как Юань Мэй. Традиция предписывала определенные правила для поэзии, рамки, которые по-настоящему творческий человек всегда пытается раздвинуть.
Древним было легко писать стихи, Поэтические школы были уникальны.
А сейчас стихи писать тяжело,
Множество тем уже охвачено.
Всецело предаваться подражанию одного мастера –
Разве этого не прискорбно мало?
Нужно уметь отбирать лучшее,
Прекрасно, когда у тебя много учителей.
Каждое место обладает своим особым колоритом,
Так и люди все отличаются талантом.
Когда небесная дева примеряет платье,
Оно должно быть по размеру.
(цит. по: [Цинская поэзия и традиция…, 2008. С. 460]).
В этом стихотворении Юань Мэй затрагивает основные проблемы, с которыми сталкивался творческий человек в XVIII в. Прежде всего, это колоссальный объем произведений предшественников. Казалось, что любая тема уже нашла свое отражение в литературе, все обсуждалось не по одному разу. Более того, в поэзии уже использованы самые разнообразнейшие стили. Отсюда вытекал другой вопрос – как относиться к этому богатейшему наследию? Каким образом следовать поэтической традиции, заимствовать у классиков, как писать собственные стихи? Сам Юань Мэй считал, что невозможно ограничиваться подражанием только одному классику, нужно брать лучшее из всей тысячелетней традиции, для чего поэт должен обладать широким кругозором. Однако как поэт может выйти за рамки традиции, показать свой талант и создать собственную школу? Для Юань Мэя ответ был прост: как разные места отличаются своими пейзажами, так отличаются и люди, у каждого свой характер, чувства, стиль, и поэту просто следует в своем творчестве показывать собственные уникальные эмоции и устремления. «Один человек спросил меня, кто из современников пишет стихи лучше всех. Я спросил его в ответ: “Из трехсот стихов Ши цзина какой самый лучший?” Тот человек не смог ответить. Я сказал ему: “Стихи похожи на полевые цветы, весенние орхидеи, осенние хризантемы – каждый очарователен в свой сезон, человек не может расставить их по порядку. Если мелодика и содержание стиха трогают людей за душу и радуют глаз, то это и есть хороший стих, и не выделить первого, второго места... Если люди не могут определить, какое растение самое лучшее, то что уж говорить о стихах?”» [Юань Мэй, 2008. С. 23].
Для поэтов XVIII в. широкая эрудиция была одним из самых важных требований. Однако сама по себе она еще не делала человека, пишущего стихи, великим поэтом. Необходима была душевная работа над богатым литературным наследием. Юань Мэй считал, что только человек широко образованный может быть хорошим поэтом. «Хотя ценность стихов заключается в простоте и изяществе, но в них не должно быть духа деревни. Почему? В древности Ин, Лю, Бао, Се, Ли, Ду, Хань, Су – все они были чиновниками, а не простолюдинами из деревни. Прочитанных ими книг великое множество, и еще им следовало исполнять свои чиновничьи обязанности, они путешествовали по знаменитым горам и крупным рекам, знакомились со знаменитыми людьми четырех морей и пяти областей, и во время написания стихов их кругозор и взгляды, естественно, были широкими. Друзья учатся друг у друга, их поэтическое мастерство несомненно совершенствуется. А иначе... хотя и могут быть в стихах удачные места, но кругозор все-таки будет слишком узким» [Там же. С. 44].
Для Юань Мэя книги не были тяжким грузом, он находил в них радость, однако не погружался с головой в труды классиков, пытаясь загрузить свои собственные произведения одними цитатами. Чтение для него обладало особой жизненной силой, в процессе чтения человек – это субъект, творец. Оно отличается от подражания, когда читатель растворяется в произведении другого, теряя собственное «я». Полемизируя с Шэнь Дэцянем (沈德潜, 1673–1769) по поводу теории гэдяо (格调, «мелодика стиха» или, в другом переводе, «форма и лад»), требовавшей «строгого соблюдения правил чередования тонов и рифмовки», Юань Мэй писал: «Ян Чэнчжай 3 говорит: “С древности и до наших дней не слишком талантливые люди любят в своих стихах говорить о гэдяо – размере и мелодике стиха и не видят очарования содержания. Почему так происходит? Потому что гэдяо – это форма без содержания, любой может написать что-то подобное. Именно содержание передает синлин – душу поэта, и только настоящий талант может создать такое произведение 4”. Мне нравится эта фраза. Где есть чувство, там присутствует и размер, размер всегда там, где чувство. Среди трехсот стихов “Ши цзина” большая часть напрямую рассказывает о чувствах тружеников и влюбленных девушек. Разве им кто-либо устанавливал размер? Разве им кто-либо устанавливал мелодику (ритм)?.. Квинтэссенция поэзии в ткани стиха, а не в его размере!» [Юань Мэй, 2008. С. 3]
Для Юань Мэя поэзия – естественное, но окутанное тайной творчество, доступное лишь посвященным. «Стихи – самые естественные звуки между Небом и Землей, хотя в них есть свои правила, но они не обязательны, так как когда находишь подходящие слова, то они естественным образом складываются в рифму. Таинство, заключенное в этом, невозможно выразить словами» [Там же. С. 46]. Более того, не посвященный в эту тайну человек не сможет осознать многих вещей, которые даже не стоит объяснять, так как объяснить невозможно. Например, «всего один исправленный иероглиф в стихе придаст совершенно иной смысл, те, кто не умеет писать стихи, не поймут этого» [Там же. С. 113].
А. Уэйли полагал, что Юань Мэй был по духу близок европейским поэтам-романтикам XIX в. «Если бы он [Юань Мэй] мог прочитать слова Стендаля в сочинении “Расин и Шекспир”: “Романтизм – это искусство давать народам такие литературные произведения, которые при современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее наслаждение. Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая доставляла наибольшее наслаждение их прадедам”, он бы узнал себя в описании романтиков» [Waley, 1958. P. 174]. Романтизм в европейском понимании как раз и был ориентирован на личность человека, ставил внутренний мир человека, его душу во главу угла. Творец, по мнению романтиков, свободен в своем творчестве, его фантазия не должна ничем сдерживаться, потому и следует уходить от норм, догм, бытовавших в эстетике. «Романтики страстно защищали творческую свободу художника, его право на творческий вымысел: гений не подчиняется правилам, но сам их творит. Стихосложение, жанр, форма – все это свободно возникает в творческом воображении поэта, а не предписывается извне», – считал В. Гюго [Основы литературоведения, 2003. С. 260–261]. Естественно, что китайские реалии XVIII в. не могли породить такое абсолютное отвержение всех норм, поэтому взгляды Юань Мэя намного мягче и звучат не так экспрессивно (на взгляд романтика XIX в., но не образованного китайца XVIII в., ведь Юань Мэя современники часто считали довольно экстравагантным человеком). Тем не менее нельзя не отметить очевидную схожесть во взглядах этих двух разделенных материком и веком течений в творчестве.
Еще одним из важных положений в теории Юань Мэя было умеренное использование аллюзий, отсылок к произведениям классиков. В «Беседах о поэзии» он сравнивает такого рода ссылки с антиквариатом, которому в каждом доме должно быть свое место. «Большой ученый собрался продавать осла, исписал целых три листа бумаги, но слово осел там даже не появилось. Обычно так говорили, когда высмеивали тех, кто любит использовать слишком много аллюзий. Я считаю, что использование аллюзий похоже на украшение дома антиквариатом, каждый должен быть на своем месте: некоторые подходят для главного зала, другие – для покоев, некоторые – для кабинета, а другие – для горного жилища. Какие-то надо ставить под светлое окно, другие – на чистый чайный столик, некоторые ценны сами по себе. Как сказал Конфуций: “Разрисовка производится после грунтовки” [Юань Мэй, 2008. С. 64]. Другими словами, суть, душа стиха – первична, а украшения вроде аллюзий – уже вторичны.
По мнению Юань Мэя, история показывает, что пользовавшиеся популярностью на протяжении веков произведения шли от сердца к сердцу, а на этом пути чрезмерное употребление аллюзий излишне. «Начиная с “Трехсот стихотворений” 5 до наших дней, если стихи передавались из поколения в поколения, то это все произведения, наполненные душой, чувством, не имеющие никакого отношения к перегруженным [примерами из прошлого] стихам.
Только поэзия Ли Шанъиня немного переполнена аллюзиями, но и это результат его таланта, он не специально наполнял ими стихи» [Юань Мэй, 2008. С. 54].
Тем не менее аллюзии – неотъемлемая часть любой поэзии, и особенно китайской классической. В. М. Алексеев писал: «Если, по установленным европейскою наукой понятиям, каждый поэт есть выразитель своего народа и своей эпохи, то китайский поэт, помимо этого, и в первую очередь, есть выразитель своей начитанности» [1916. С. 10]. Поэтому в любом китайском классическом стихотворении должны были быть аллюзии и реминисценции, однако их не должно быть слишком много, иначе смысл произведения легко мог ускользнуть от читателя. «Стихи о древности пишутся под влиянием минуты, с ними не сравнятся простые географические описания... Недавно один тайши сочинил четыре стиха под названием “Вспоминаю о древности в Лояне”, в котором были истории, связанные с Лояном, все, какие он нашел, все поместил в стихи, в итоге в одном стихе содержались семь-восемь аллюзий... Непонятно было, что хочет сказать автор. Тогда я сказал ему: “Когда древние писали такие стихи, то использовали лишь один пример из прошлого для передачи чувств”» [Юань Мэй, 2008. С. 67].
Кроме того, по мнению Юань Мэя, важна была и правильно подобранная рифма. «Для создания хороших стихов следует выбрать хорошую рифму... Такие мастера кисти, как Ли Бо и Ду Фу, не использовали редкие, малоупотребимые рифмы не потому что не умели, а потому что считали это ненужным. Использование Хань Юем трудных, редких рифм... было всего лишь временной литературной игрой» [Там же. С. 65].
Согласно статистическим данным Ван Инчжи [2000. С. 3], в период правления под девизами Цяньлун и Цзяцин у школы синлин было более 40 последователей. Среди последователей Юань Мэя был Чжэн Се ( 鄭燮 , 1693–1765), родом из Синхуа (современной пров. Цзянсу), чиновник, поэт, каллиграф, художник. Стихи он писал в стиле даоцин 道情 (свободное выражение чувств), многие его произведения переложены на музыку. Чжао И ( 趙翼 , 1727–1814), родом из Янху, написавший более 4 тыс. стихов, также считается одним из последователей школы синлин .
К этой же школе часто относят Хуан Цзинжэня ( 黄景仁 , 1749–1783). Юань Мэй был старше Хуан Цзинжэня на 30 с лишним лет, но это не помешало им стать друзьями. Цянь Чжунлянь, известный китайский исследователь истории литературы и особенно ее цинского периода подчеркивал: «В китайской поэзии до Опиумных войн наибольшим влиянием кроме школы синлин обладает только Хуан Чжунцзэ (т. е. Хуан Цзинжэнь)» (см.: [Вэй Чжунлинь, 2004. С. 66]). В седьмом цзюане «Беседы о поэзии Суйюань» приводятся оба стиха Хуана «Песня о приливе», что говорит о восхищении творчеством юного поэта. Именно Юань Мэй первым отозвался о нем, как о «Ли Бо нашего времени ( 今李白 )». Зиму 1774 г. Хуан Чжунцзэ провел в Суйюань. Он почитал Юань Мэя, посвящал ему стихи:
Все таланты нашего поколения взирают снизу вверх на этого великого мудреца,
Небо дало ему это место – действительно идеально.
Его написанные под вдохновением стихи останутся в веках...
[Избр. стихотворения Хуан Чжунцзэ, 1983. С. 156].
Однако Хуан не преклонялся перед учителем слепо, у него была своя собственная позиция. В некоторых вопросах его точка зрения отличалась от взглядов Юань Мэя. Так, например, Юань полностью отрицал заслуги Ван Аньши для развития поэзии, а Хуан Цзинжэнь, наоборот, испытывал влияние этого сунского поэта-политика.
Таким образом, можно сказать, что и сам Юань Мэй, его личность, и его творческие установки оказали сильное влияние на современников и потомков. Поэтому он остается одним из самых известных и изучаемых поэтов XVIII в.
YUAN MEI AS CREATOR OF «XINGLING» THEORY – SPECIAL TREND IN QING DYNASTY POETRY