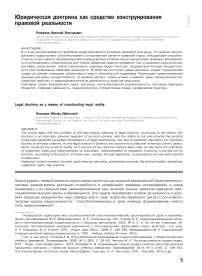Юридическая доктрина как средство конструирования правовой реальности
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (1), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема правотворческого значения правовой доктрины. По мнению автора, доктрина представляет собой внутренне согласованный сегмент правовой науки, обладающий способностью не только давать общепризнанную в юридическом сообществе интерпретацию правовых феноменов, но и устанавливать обязательные для членов общества модели поведения. Как и правовая наука в целом, доктрина представляет собой совокупность знаковых форм (текстов), посредством которых осуществляется конструирование правовой реальности. В качестве источника права доктрина создает юридические нормы на основе типизации субъективных прав и обязанностей индивидов. Реализация правотворческой функции доктрины осуществляется, по мнению автора, тремя путями, а именно через законотворчество, судебную практику и правоприменительную деятельность юристов-практиков.
Юридическая наука, доктрина, постклассическая рациональность, постиндустриальное общество, правовая реальность, правотворчество, субъективные права, юридическая практика
Короткий адрес: https://sciup.org/14121148
IDR: 14121148
Текст научной статьи Юридическая доктрина как средство конструирования правовой реальности
Новый журнал, первый номер которого представлен на суд широкой юридической общественности, призван удовлетворить растущую потребность в активизации правовых исследований, а также ознакомить с их результатами заинтересованных лиц, включая ученых, юристов-практиков, преподавателей высшей школы и обучающихся. Эта задача приобретает особую актуальность в условиях перехода юридических наук (прежде всего, наук теоретико-правового цикла) к постклассическому идеалу рациональности1, способствовавшему в свою очередь формированию нового типа правопонимания2.
СТАТЬИ
Необходимой предпосылкой постклассического правопонимания выступает качественная трансформация научно-юридического дискурса, предполагающая радикальный отказ от понятийного аппарата и самого стиля мышления как классического позитивизма, так и «марксистско-ленинской общей теории права»3. На смену им приходит система базовых категорий, сформировавшаяся под определяющим влиянием феноменологии, аналитической философии, постструктуализма и социального конструктивизма, образующих, при всех издержках4, идейно-методологический мейнстрим современного социогуманитарного знания.
На этой основе появляется возможность переосмысления всего комплекса доктринальных представлений о праве, государстве, правовых и социально-политических явлениях на уровне не только общей теории, но и отраслевых юридических дисциплин. Масштабность и значимость данной работы, способной придать импульс развитию юридических исследований в нашей стране, неоднократно отмечались в последние годы. Так, по мнению В. А. Четвернина, последовательность и непротиворечивость трактовок основных юридических категорий способны придать правовой науке недостающую ей системность, устранив разрыв между общей теорией права и теориями среднего уровня, генерируемыми отраслевыми юридическими дисциплинами5. Пагубность такого разрыва наглядно проявляет себя в высшем юридическом образовании, способном внушить обучающимся убеждение в заведомом несоответствии «высокой» теории насущным задачам отраслевых юридических исследований, не говоря уже о правоприменительной и иной практической деятельности.
Впрочем, говоря об отраслевых теориях, нельзя не отметить серьезный дефицит научности последних, обусловленный нечеткостью, а подчас и фиктивностью предмета отраслевых исследований, под которым нередко понимают совокупность нормативных правовых актов и содержащихся в них положений, изучать которые, якобы, и должна любая отраслевая наука. Легко заметить, что при таком понимании отраслевое исследование превращается в толкование и комментирование законов, по сути, лишаясь своего научного содержания6. В итоге намечается расхождение не только общей теории права с отраслевыми юридическими теориями, но и правовой науки в целом с потребностями практики, пагубное для обеих сторон. Наука, игнорируя запросы практической деятельности, рискует выродиться в схоластику, занятую беспредметными рассуждениями об отвлеченных и не поддающихся верификации сущностях (таких, в частности, как «правовая духовность», «этнонациональный менталитет» и т. п.)7. Одновременно практика, не руководствующаяся научными выводами и методологией, зачастую оказывается бессильной ответить на вопросы, которые ставятся перед ней самой жизненной необходимостью.
Со всей наглядностью это проявляется в условиях постсовременного (постиндустриального) общества, для которого характерно беспрецедентное ускорение социальной динамики, способствующее появлению не существовавших ранее отношений и нестандартных жизненных ситуаций8. Новизна и неординарность фактов, образующих эмпирическую основу правовой реальности в эпоху постмодерна, требуют от юриста-практика оригинального творческого мышления, способствующего решению задач, имеющих отнюдь не рутинный характер. Нестандартность и творческий характер правового регулирования в постсовременном обществе (плохо согласующиеся с устоявшимися представлениями о «механизме правового регулирования») подчас создает иллюзию сущностной неопределенности самого права9.
В частности, Дж. Агамбен, говоря об ограниченности возможностей нормативного регулирования в ситуации, когда устойчивые, долговременные и регулярно воспроизводимые социальные связи между членами общества сменяются единичными и уникальными жизненными обстоятельствами, не поддающимися многократному воспроизведению, приходит на этом основании к выводу о «нормальности» для подобных сообществ режима чрезвычайного положения10. Очевидно, однако, что чрезвычайное положение, разрушая когерентность социального и правового пространства, в долгосрочной перспективе пагубно влияет на динамику человеческого сообщества как саморазвивающейся системы. В любом случае юристу едва ли позволительно игнорировать заведомо неправовой характер чрезвычайщины, построенной на тотальном отрицании человеческой свободы и производных от нее субъективных прав личности.
СТАТЬИ
Вместе с тем имеются основания утверждать, что характер правового регулирования с неизбежностью претерпевает качественные трансформации. Возрастает роль индивидуальной правоприменительной деятельности, предъявляющей повышенные требования к квалификации практикующих юристов. Последние перестают быть простыми проводниками нормативных предписаний, становясь активными творцами правовой реальности. В подобных условиях приобретает особое регулятивное значение юридическая наука, формирующая основу правотворческой и правоприменительной деятельности. Вот почему отнюдь не случайной представляется активизация дискуссий о правовой науке (доктрине) как источнике права вообще и как источнике современного российского права, в частности.
При этом ряд исследователей отрицает смысловое тождество понятий доктрины и юридической науки, полагая, что лишь некоторые научные исследования в правовой сфере имеют доктринальный характер. Так, с точки зрения И. С. Зеленкевич, «наибольший вред признанию правовой доктрины источником права наносит именно слияние понятий “правовая наука” и “правовая доктрина”, употребление их в качестве синонимов… Необходимо четко разграничить данные, несомненно родственные, но все же неидентичные друг другу понятия»11. Таким образом, в отличие от правовой науки в целом, содержательно включающей в себя любые исследования, имеющие целью генерирование новых знаний в соответствующей сфере, доктрина представляет собой совокупность наиболее авторитетных мнений по актуальным вопросам теории и практики, имеющих регулятивное значение и пользующихся всеобщим признанием12.
Иными словами, доктрина представляет собой внутренне согласованный (консолидированный) сегмент правовой науки, обладающий способностью не только давать общепризнанную в юридическом сообществе интерпретацию правовых феноменов, но и устанавливать для членов общества модели поведения разной степени обязательности — от рекомендуемых до безусловно императивных. Она формируется как конечный итог познавательной деятельности со всеми дискуссиями и противоречиями (в том числе и такими значимыми, как спор о правопо-нимании), присутствующими на доктринальном уровне уже «в снятом виде». Доктрина и юридическая наука в целом конструируют правовую реальность, которую можно определить как упорядоченное множество юридически релевантных социальных феноменов и связей между ними.
Подобно любому иному региону бытия природы или общества13, правовая реальность может рассматриваться в синхронном и в диахронном (историческом) измерениях14. В первом аспекте она представляет собой результат конструирования, осуществляемого разнообразными средствами, имеющими по преимуществу семиотический характер, во втором — включает в себя эволюционные процессы, приводящие к закономерным трансформациям как самих знаковых систем, так и способов знакового конструирования феноменов реальности. Специфическими знаковыми средствами конструирования правовой реальности выступают юридические ценности (свобода, справедливость, формальное юридическое равенство и другие правовые смыслы), нормы права,
СТАТЬИ
субъективные права и обязанности15. Важнейшей особенностью перечисленных знаковых средств является их особая релевантность, позволяющая демаркировать феномены правовой реальности от иных проявлений социокультурного семиозиса. Замещая акты фактического поведения членов общества в процессах коммуникации16, знаки обеспечивают взаимопонимание и согласие индивидов в вопросах права17, передают информацию о возможном, должном и запрещенном поведении и, в конечном счете, формируют правовую реальность как одно из измерений социума.
Правовая наука, прежде всего, в своих доктринальных проявлениях, выполняет ряд функций, обеспечивающих организацию правовой реальности и ее историческую динамику. Во-первых, она направлена выявление и описание множества юридически релевантных фактов, образующих эмпирическую основу правовой реальности18, и их отделение от фактов, не обладающих такой релевантностью (селективная функция). Во-вторых, правовая наука обеспечивает смысловое наполнение феноменов правовой реальности и в конечном итоге формирует смысловую структуру последней (смыслообразующая функция)19.
В-третьих, в определенных условиях, а именно при отсутствии или слабой развитости позитивного права, доктрина, как правило, осуществляющая одновременно интерпретацию сакральных текстов, оказывается в состоянии его замещать, непосредственно устанавливая правила поведения, легитимированные в подобном случае авторитетом Священного писания, на которое она опирается (прескриптивная функция). Примерами реализации доктриной указанной функции являются религиозные правовые системы.
Известна, в частности, важная нормотворческая роль, которую играла в мусульманском праве VIII–XI вв. правовая наука в целом (иджтихад), особенно согласованное мнение авторитетных юристов (иджма)20, выступавшее «в качестве своеобразного средства, способа восполнения пробелов в мусульманском праве в тех случаях, когда ни Коран, ни Сунна не могут дать убедительного ответа на возникающие вопросы»21. И хотя «закрытие врат иджтихада» в XII в. и секуляризация правовых систем исламского мира Нового времени, привели к утрате правовой наукой данной функции, доктрина, по утверждению некоторых исследователей, до сих пор оказывает существенное влияние на законодательство и судебную практику ряда мусульманских стран22.
В-четвертых, описывая юридически релевантные факты, наука одновременно ставит своей целью выявление закономерных причинно-следственных связей между ними, тем самым организуя правовую реальность в соответствии с заложенной в ее основу теоретической моделью (конститутивная функция). Примечательно, что данная функция укоренена в нейрофизиологических процессах, происходящих в мозгу человека по мере конструирования им окружающей реальности. Учеными доказано, что в ходе познания и устойчивого практического взаимодействия индивида с объектами внешнего мира в его мозгу формируются нейронные связи, коррелирующие тем отношениям, которые существуют между фактами реальности23.
СТАТЬИ
Исходя из этого, есть основания предположить, что знания, которые вслед за К. Поппером можно рассматривать в качестве «третьего мира»24, формируют как структуры головного мозга познающего субъекта, так и познаваемый мир объектов, тем самым конструируя и объективную, и субъективную реальность. Наконец, в-пятых, совершенствование механизмов и инструментов получения новых знаний, приводящее к их количественному и качественному росту25, позволяет науке влиять на правовую реальность, обеспечивая ее трансформации, включающую в себя направленные преобразования в соответствии с доктринально разработанным регулятивным идеалом (динамическая функция).
Нетрудно заметить, что на разных этапах исторического развития соотношение указанных функций было неодинаковым. В зависимости от конкретных условий, определяющих потребности общества, и от уровня развития, а также исторических особенностей самого научного знания, одни его функции имели преобладающее значение, тогда как другие играли вспомогательную (субсидиарную) роль. В традиционных правопорядках Древнего мира и Средних веков, когда доктрина была бесспорно признанным источником права, основными для нее являлись селективная и смыслообразующая функции. Сказанное со всей отчетливостью иллюстрируется на примере римской юриспруденции.
Возникшая на рубеже III–II вв. до н. э.26, юриспруденция Древнего Рима первоначально не имела правотворческого значения. В предклассический период истории римского права юристы решали чисто прикладные задачи, а именно составляли иски и сделки (cavere), вели дела в суде (agere) и консультровали граждан по вопросам права (respondere)27. Таким образом, доктрина в плане своего исторического генезиса первоначально вырастала из чисто практических действий, неотделимых от тех отношений и фактов, которые образовывали субстанциональную основу правопорядка. От этих действий, естественно, были неотделимы рефлективные моменты, предполагавшие осмысление релевантности юридически значимого поведения. Иными словами, правовая наука в момент своего зарождения представляла собой осмысленную практическую работу юристов, обладавших достаточной для этого квалификацией.
Лишь с течением времени, по мере эволюции как правопорядка, так и — в контексте последнего — интеллектуальной, творческой деятельности знатоков права, происходит дифференциация научного мышления и практики, сделавшейся его гносеологическим объектом. Своего наивысшего расцвета римская юридическая доктрина, как известно, достигает в I–III вв. н. э., когда произведения авторитетных юристов (Гая, Ульпиана, Папиниана, Модестина и Юлия Павла) получают официальное признание в качестве источников права. Однако даже в этот период доктрина не отвечала строгим критериям научности в современном смысле28. Деятельность классических римских правоведов по преимуществу сводилась к формулированию общих принципов правового регулирования (совокупность которых получило название ius naturale, естественного права) и к описанию на их основе конкретных жизненных обстоятельств (казусов), а также возникающих в этих обстоятельствах субъективных прав и обязанностей.
Обращают на себя внимание особенности изложения материала в сочинениях римских юристов. По словам В. А. Савельева, «описание казуса римские юристы чаще всего начинали формулой
СТАТЬИ
“спрашивается…” (quasitum est), за которой следовало изложение обстоятельств казуса. И далее следовал собственно “ответ” юриста, начинающийся словами “ответил, что…” (respondi). Иногда за respondi следовала еще одна характерная формула: “таково право” (quid iuris sit)»29. Вместе с тем, насколько можно судить, представление о норме как правиле поведения, обладающем общезначимостью, общеобязательностью и многократной повторяемостью, в целом было чуждо юристам классического периода. О казуистичности их мышления, среди прочего, свидетельствуют особенности применяемого ими метода, в частности, стремление дать точные дефиниции понятий, неизменная приверженность заимствованным в трудах Аристотеля приемам родо-видовой классификации изучаемых фактов, использование иных формально-логических и лингвистических приемов толкования, к которым подчас сводилось собственно правовое исследование30.
Таким образом, юристы Древнего Рима проделали огромную работу, призванную дать по возможности исчерпывающее описание, систематизацию и каталогизацию юридических фактов, из которых на эмпирическом уровне складывалась правовая реальность. Это способствовало типизации последних, формулированию тех образцовых казусов, руководствуясь которыми судьи могли выносить решения по конкретным делам. Как пишет А. А. Малиновский, «образцовый казус представлял собой модель решения типичного юридического спора, возникшего при одинаковых или сходных фактических обстоятельствах… Появление образцовых споров свидетельствует о достаточно высоком уровне развития римской юриспруденции. Ее представители смогли выявить типичное в правовой действительности, точно определить юридическую суть спора, абстрагируясь от разнообразных фактических нюансов, попытались создать теоретическую модель решения одинаковых споров путем применения метода аналогии»31.
Типизация конкретных жизненных ситуаций, производившаяся римской юриспруденцией, проливает свет на особенности доктринального правотворчества и на специфику правопорядков традиционных обществ, к числу которых относилось и античное общество Древнего Рима. Характерной чертой таких правопорядков, на наш взгляд, являлась неразвитость нормативного компонента, в связи с чем роль основного средства конструирования правовой реальности выполняли субъективные права и обязанности, неразрывно связанные с конкретными жизненными ситуациями, из которых они непосредственно проистекали. Именно в субъективных правах и обязанностях репрезентировалась и формализовалась смысловая структура соответствующей фактической ситуации, позволявшая участникам правового общения психологически воспринимать субъективные права в качестве юридических притязаний, дававших возможность требовать определенного поведения обязанных лиц.
Формулируя образцовые казусы, юристы руководствовались предпосылкой, в соответствии с которой в ситуациях, обладающих одинаковой релевантностью, субъекты будут вести себя аналогичным образом, что позволяло создавать типовые модели субъективных прав и обязанностей, применимые к множеству сходных фактических ситуаций. В этом смысле типизация юристами правовой реальности расширяла горизонты последней, позволяя перейти от единичных фактов к их совокупностям, объединенным общей релевантностью и характерными признаками32. Одновременно познавательная деятельность римских юристов стала логическим продолжением и развитием процессов конструирования реальности, истоки которых коренятся в допредикативных структурах жизненного мира33 и в обыденном правосознании субъектов правового общения.
Рецепция римского права в средневековой Западной Европе начиная с XI в. повлекла за собой не только усвоение западноевропейскими юристами научных достижений и результатов античных знатоков права, но и возрождение правотворческого значения юридической доктрины34. Более того, в условиях местного партикуляризма, присущего средневековому праву, именно юристы творили единый правопорядок (jus commune)35. В этой связи представляется глубоко не случайным стремление европейских монархов придать их сочинениям обязательную силу36.
СТАТЬИ
Указанная тенденция с особой наглядностью проявила себя в период XIII–XIV вв., на который приходится деятельность постглоссаторов (комментаторов)37, являвшихся, в отличие от глоссаторов, не только университетскими профессорами, но и активными участниками политической жизни. Рекомендации, сформулированные в работах наиболее влиятельных постглоссаторов, таких как Бальдус ди Убальди, Франциск Аккурсий, Бартоло ди Сассоферато и др., подлежали обязательному применению в судах, что дало возможность в известной степени обуздать произвол судей и создать условия для согласования городских, коммунальных, общинных и иных местных обычаев38.
В трудах представителей научной доктрины jus commune создаются юридические конструкции, претендующие не просто на типизацию, но на обобщение фактического материала и, следовательно, на общезначимость в качестве компонентов правовой реальности. Тем самым основной для средневековой юридической доктрины становится уже не селективная, а конститутивная функция, связанная с конституированием правопорядка и его основных сегментов. Результатами тщательной доктринальной проработки стали практически неизвестные римскому праву категории государства, публичной власти, юридических лиц, договорного права и т. п.39
Именно благодаря правотворческой деятельности юристов происходит дальнейшая теорети-зация и концептуализация правовой реальности, заложившая основы для формирования в эпоху Нового времени национальных правовых систем. Последние стали закономерным результатом нормализации правопорядков, приведшей к формированию на основе типизированных юристами субъективных прав и обязанностей общезначимых правил поведения, распространивших свое действие на всех участников правового общения. Нетрудно заметить, что ведущую роль в нормализации правопорядков, завершившейся созданием кодификаций XIX столетия, играла юридическая наука, в том числе и в ее доктринальном аспекте. Великие юристы раннего Нового времени (в частности, И. Альтузий, Г. Гроций, У. Блэкстоун, Д. Коук, Ж. Боден, Ж. Кюжа, Ч. Беккария и др.), которых с полным на то правом можно назвать создателями современного научного метода40, сформулировали теоретическое представление о норме права как правиле поведения, нашедшее применение в законодательном регулировании общественных отношений.
По мере окончательного формирования нормативного измерения правовой реальности доктрина утрачивает присущее ей значение источника права. Этому помимо прочего способствовали
СТАТЬИ
механистические модели правового регулирования, получившие распространение в правотворческой и правоприменительной практике Нового времени, на которую опосредованное, но весьма активное влияние оказала классическая естественнонаучная картина Вселенной, подчиненной действию природных законов, представляющих собой всеобщую причинно-следственную связь фактов, установленных в опыте. Как следствие, основным средством конструирования современного правопорядка становятся правовые нормы, рассматриваемые в качестве официально-властных предписаний, обладающих признаками общеобязательности, формальной определенности, многократности применения и распространяющие свое действие на неопределенный круг лиц и на неограниченное множество типичных общественных отношений41.
Со всей наглядностью подобные механистические представления о нормативности права проявили себя в разработанной рядом советских юристов концепции «механизма правового регулирования», представляющего собой процесс одностороннего воздействия установленных государством норм на поведение членов общества путем наделения последних субъективными правами и обязанностями42. Одновременно правовая наука, основная задача которой стала видеться в выявлении общих предпосылок и закономерностей нормативного регулирования, толковании норм и выработке рекомендаций по их применению, вытесняется в сферу чистого знания43. Правотворческие возможности доктрины, чьи положения по мере усложнения современного правопорядка становятся все более абстрактными и теоретически нагруженными, в целом оцениваются исследователями скептически44, несмотря на оговорки о том, что доктрина является важным способом правообразования в любом обществе, «всеобъемлющей формой права», вторичным, нетрадиционным источником права и т. п.45 Исключение составляет лишь англосаксонское (англо-американское) право, где в силу ряда причин исторического, системного и социокультурного характера за доктриной сохранилось (хотя и в ограниченных пределах) значение источника права46.
Представляется, что рассмотренные тенденции исторической динамики науки о праве отражают важнейшие закономерности трансформации знаковых средств конструирования правовой реальности в эволюционном измерении. Это обусловлено самой природой юридической науки, представляющей собой совокупность текстов, т. е. знаковых комплексов, организующих, упорядочивающих и репрезентирующих феномены правовой реальности на основе смысловой структуры, имманентно присущей последней. Мы видели, что основной закон эволюции правовой реальности состоит в развитии последней в сторону все большей общезначимости образующих ее знаков, коррелирующим с формированием единой смысловой структуры, пронизывающей эту реальность.
А именно релевантности (возникшие изначально в допредикативных горизонтах жизненного мира), образующие смысловое ядро конкретных жизненных ситуаций47, в ходе эволюции универ-сализуются, распространяются на множество однотипных фактов и однородных социальных отно- шений, требуя от их участников сходного поведения. В плане знаковой формы эволюция правовой реальности проявляется в формировании на основе субъективных прав и обязанностей норм общего действия, адресатами которых выступает неограниченный круг участников правового общения.
СТАТЬИ
Таким образом, правовые нормы, являющиеся атрибутом развитого правопорядка, выступают результатом типизации субъективных прав и обязанностей и седиментации юридически релевантного опыта множества конкретных индивидов48. Результатом рассматриваемых процессов становится формирование общего для всех индивидов пространства правовой реальности, представляющего собой единое поле интерсубъективных коммуникаций. Правовая наука в целом и доктрина в частности, благодаря присущему им высокому рефлексивному потенциалу, а также авторитету, которым пользуются ученые-юристы, способна значительно ускорить этот процесс, став мощным катализатором эволюционных изменений правовой реальности.
Эволюционная динамика правовой реальности и участие в ней научного познания имеют не случайный и не произвольный, но глубоко закономерный характер, подтверждаемый на примере эволюции иных знаковых средств конструирования реальности (языков). Речь идет, в частности, о естественных человеческих языках49, которые первоначально складываются из окказионально мотивированных индивидуальных знаков, обладающих максимальной степенью конкретности и обозначающих единичные предметы. Простейшим (и наиболее ранним) примером таких знаков являлись ручные жесты, выступавшие, по мнению некоторых ученых, первым способом знаковой коммуникации50. По мере становления и развития звукового языка, элементы жестовой коммуникации сохранились в его структурах в виде эмфатических ударений, восклицательной интонации51 и в особенности так называемых дейктических слов, играющих, как показал К. Бюлер, важную роль в конструировании пространственных отношений говорящего52.
Индивидуальный и, следовательно, предельно конкретизированный и приуроченный к отдельным коммуникативным ситуациям, характер первичных форм знаковой коммуникации находит свое проявление в идиолектах, из которых, по мнению некоторых лингвистов, и состоит язык любого человеческого сообщества на ранних этапах развития 53. Как утверждал В. Гумбольдт, «все люди говорят как бы одним языком, и в то же время у каждого человека свой отдельный язык. Необходимо изучать живую разговорную речь и речь отдельного индивидуума»54. В ходе эволюции на основе множества идиолектов формируется единый язык обязательный для всех членов языкового сообщества. При этом индивидуальные различия, проявляющиеся в идиолектах, не утрачивая в целом своего значения, в той или иной мере нивелируются. Активную роль здесь играют процессы нормализации, происходящие в любом языке, достигшем известной ступени развития.
Одной из наиболее значимых предпосылок нормализации является утрата семиотическими средствами, используемыми языком, непосредственной образной выразительности и превращение
СТАТЬИ
их в знаки, способные сигнифицировать большие классы предметов, обладающих общими при-знаками55. Исследования А. М. Хокарта продемонстрировали, что эволюция от знака-изображения к знаку-символу имеет общекультурное значение и затрагивает любые переплетенные с естественным языком сферы коммуникации, например, политические и правовые ритуалы, практиковавшиеся в древних обществах56. Важную роль здесь играет научное знание, способствующее концептуализации культуры и формированию категориального аппарата, с помощью которого обеспечивается семантическое единообразие различных сфер культурной реальности, включая и реальность правовую57.
Данное обстоятельство, применительно к лингвистической семантике, описывает Вяч. Вс. Иванов, по словам которого: «Развитию от конкретных изображений к символам в языках соответствует сходное перемещение теоретических интересов по отношению к языку. Для ранних этапов сознания (в частности, отраженных в мифах) основной проблемой являлась связь знака и предмета, что сказывается в преданиях о наименовании вещей… Современная лингвистическая семантика, развитие которой началось с исследования знаков, обозначающих концепты, меньше всего занимается этим кругом вопросов»58. То же самое можно сказать и о юридической науке, правотворческое значение которой состоит в том, что она, формируя систему средств знакового конструирования правовой реальности, создает условия для нормализации последней.
Даже в современных условиях, когда правовую науку вообще (и доктрину в частности), как мы видели, не принято относить к числу источников права, их значение по-прежнему велико особенно там, где нормы позитивного права выступают выражением не произвола господствующей клики, но отражают закономерности социальной жизни, а также общую волю и публичный интерес всех членов общества. В таких условиях доктрина с неизбежностью выступает на передний план среди не только правообразующих факторов, но и среди источников права в строгом (формальноюридическом) смысле59. Косвенным образом указанное обстоятельство, правда, пока лишь применительно к нормам зарубежного права на территории Российской Федерации, получает официальное признание в ряде нормативно-правовых актов (п. 1 ст. 1191 ГК РФ, п. 1 ст. 14 АПК РФ, п. 1 ст. 166 СК РФ)60.
Более того, в ситуации становления качественно нового правопорядка, в силу присущих ему особенностей, о которых упоминалось выше, значение доктрины как источника права будет, по-видимому, возрастать. При этом, учитывая особенности правовой науки, в том числе и в ее доктринальных проявлениях, имеются основания предположить, что основной функцией, релевантной для постсовременного правопорядка станет динамическая функция, реализация которой позволит активно воздействовать на правопорядок, приводя его в соответствие с выработанными на доктринальном уровне общими принципами. Конститутивное воздействие правовой науки на правопорядок может осуществляться сразу по нескольким направлениям, а именно через законотворчество, судебную практику и правоприменительную деятельность юристов-практиков.
СТАТЬИ
Взаимная связь и влияние доктрины на законотворчество имели место уже на ранних стадиях эволюции правовой реальности, становясь особенно тесными во время кодификационных работ, требовавших исчерпывающих представлений о структуре правопорядка, принципах его системной организации, соотношении конкретных элементов и др. Такие представления могла сформировать лишь юридическая наука, вот почему не случайной является ведущая роль, которую играли ученые в подготовке кодифицированных законодательных актов. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить лишь несколько наиболее известных примеров. Так, по мнению историков, уже древневавилонские Законы Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) стали результатом тщательной доктринальной проработки, обобщения и систематизации обычного права, судебных решений, царских указов и иных источников61.
Общеизвестно влияние правовой науки на кодификации римского права на протяжении всего существования последнего. В состав комиссии децемвиров по составлению Законов XII таблиц входили лица, выделявшиеся своими познаниями в сфере права (прежде всего, глава коллегии Аппий Клавдий). И в дальнейшем кодификационными работами руководили ведущие юристы своего времени: в частности, Сальвий Юлиан (II в н. э.) по распоряжению императора Адриана систематизировал нормы преторского права, подготовив так называемый Вечный эдикт (Edictum perpetuum). Но особенно велик был вклад ученых-юристов в подготовку Юстиниановского Свода цивильного права, к участию в которой были привлечены крупнейшие ученые своего времени62. Указанная традиция получила свое продолжение и в Византии, где юристы (такие, к примеру, как Константин Арменопул) столь же активно, как и в Римской империи, участвовала в создании законодательных актов63.
Не нуждается в специальном доказывании, что все важнейшие кодификации Нового и Новейшего времени (Французский гражданский кодекс, Полный свод законов Российской империи, Германское гражданское уложение, ГК Италии и др.) в конечном итоге явились продуктом доктринального творчества, по отношению к которому государственная власть выполняла лишь вспомогательную, авторизующую роль64. Вот почему следует согласиться с утверждением Я. Шаппа, по словам которого «доктрина в широком смысле не является чем-то “приставленным к праву”, напротив, право является ее содержанием. Однако данное обстоятельство ничего не меняет в том, что доступ к праву возможен только через доктрину»65. Доктринальное правотворчество может также осуществляться и intra legem, посредством доктринальных толкований законодательных норм, содержательно становящихся частью самой интерпретируемой нормы и подлежащих судебному применению наряду с нею.
Именно так обстоит дело во французском праве, где пользуются официальным признанием работы Ф. Пляниоля, Л. Мишо, Р. Салейля, Ж. Л. Ортолана и др. В правовых системах Нидерландов и бывших голландских колоний, прежде всего ЮАР, для восполнения пробелов в действующем законодательстве применяются сочинения глоссаторов, постглоссаторов, а также юристов XVII–XVIII вв. (Г. Гроция, А. Виния, И. Вета и др.)66. Наконец, в Германии, где доктрина не используется для непосредственного регулирования правовых отношений, труды юристов (в частности, Ф. К. Сави-ньи, А. Тура, Г. Пухты, Б. Виндшайда, Г. Дернбурга, Ю. Барона и др.) составляют теоретическую основу законодательства, оказывая определяющее воздействие на судебную практику67. Велика роль доктринальных толкований в международном праве, а именно в практике международных судов, руководствующейся сочинениями ведущих юристов (Ф. Витториа, Б. Айала, Ф. Джентиле, Э. Ваттеля, В. Ф. Малиновского и др.)68.
СТАТЬИ
Ничто, как мы полагаем, не препятствует и прямому применению доктринальных положений в правоприменительной деятельности юристов. Более того, именно сейчас значение доктрины становится особенно важным для правоприменителей, которым приходится иметь дело с фактами и отношениями, отсутствовавшим на более ранних этапах общественного развития и требующих напряженных интеллектуальных усилий для своего осмысления и юридической квалификации. Важной приметой постиндустриального (информационного) общества, отмеченной многими ис-следователями69, выступает экспансия научного знания во все сферы социальной практики, включая и практику юридическую. Неслучайным поэтому является стремление практикующих юристов обобщать накопленный опыт и делать из этого опыта научно значимые выводы и предложения. Таким образом, доктрина, тесно переплетаясь с законодательной, судебной и правоприменительной деятельностью все активнее участвует в конструировании правовой реальности. В связи с этим следует согласиться с высказываемыми в юридической литературе предложениями официально признать доктрину в качестве источника права.
Однако такое признание предполагает повышенную социальную ответственность юридической науки70. Известно, в частности, скептическое, чтобы не сказать — резко негативное, отношение И. А. Покровского к идее свободного судейского правотворчества, дискредитировавшего, по мысли ученого, идею естественного права, от лица которого брали на себя смелость выступать судьи. Важнейшим недостатком судейского права И. А. Покровский считал возможность произвола, многократно возрастающую там, где правовое сознание судей стоит на достаточно низкой ступени. По его словам: «Если теория свободного судейского правотворения заключает в себе органическую и неустранимую опасность судейского произвола, если она самую неопределенность и неясность права возводит в принцип, она, очевидно, идет вразрез с интересами развивающейся человеческой личности»71.
Хотя правовая наука, которая, в силу самой своей природы и социального назначения, выступает носителем образцового правосознания, по идее, должна избегать этой опасности, нет никаких оснований априори считать ученых свободными от недостатков, присущих другим представителям профессионального юридического сообщества. Содержательная ценность и качество исследований могут, в частности, заметно снижаться политической или идеологической ангажированностью правовой мысли, приводящей к подмене значимых целей научного знания. В таком случае место поиска научной истины и выработки обоснованных рекомендаций для правоприменительной и судебной практики занимает обслуживание интересов власть имущих. Закономерными следствиями указанной тенденции становятся оправдание произвола, проповедь правового нигилизма, отрицание ценности человеческой личности, ее основных неотчуждаемых прав и свобод и т. п. Еще одним идейным пороком юриспруденции нельзя не признать склонность к отвлеченному теоретизированию, делающему научные труды заведомо бесполезными для практикующих юристов.
Представляется, что преодоление указанных системных недостатков правовой науки станет важным шагом на пути ее превращения в источник права. При этом в задачи юридической науки должно входить не только формирование консолидированной доктринальной позиции по подлежащим урегулированию вопросам, но и создание всеохватывающей теоретической модели правовой реальности. Такая модель, опирающаяся на систему общенаучных и философско-правовых воззрений, должна служить основанием для правового регулирования. Кроме того, доктрина, выступающая в роли источника права, не может ограничиваться лишь созданием «общей теории», отдаваемой на откуп законодателю, судьям и правоприменителям. Как бы хороша ни была такая теория, она не заменит конкретных нормативных предписаний, вырабатывать которые в том или ином виде также призвана доктрина.
Иными словами, правовая наука (прежде всего в ее доктринальном аспекте) должна присутствовать на всех этапах правового регулирования — от формулирования наиболее фундаментальных общих принципов до обеспечения конкретных решений по любым практически значимым вопросам. Лишь в этом случае правовая наука сможет успешно осуществлять правотворческую функцию, являющуюся ее важнейшей социальной миссией.
Список литературы Юридическая доктрина как средство конструирования правовой реальности
- Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011.
- Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. II. М.: Юрид. лит.,1982.
- Аникин Д. А. Топология социального пространства: от географии к социальной философии // Известия Саратовского ун-та. Новая серия: Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14. Вып. 1. С. 5-9.
- Антонова Л. И. Служение праву - святая обязанность юриста // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 65-73.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.: "Мысль", 1983. С. 376-644. Цицерон М. Т. Диалоги. О государстве. О законах. М.: "Наука", 1966.