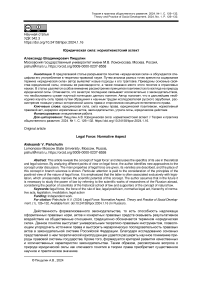Юридическая сила: нормативистский аспект
Автор: Пищулин А.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье раскрывается понятие «юридическая сила» и обсуждается специфика его употребления в теоретико-правовой науке. Путем анализа разных точек зрения на содержание термина «юридическая сила» автор выявляет новые подходы к его трактовке. Приведены основные свойства юридической силы, описаны ее разновидности, а также показано место этого понятия в отраслевых науках. В статье уделяется особое внимание рассмотрению принципов позитивистского взгляда на природу юридической силы. Отмечается, что зачастую последнюю связывают исключительно с законодательством, что необоснованно сужает научный потенциал данного понятия. Автор полагает, что в дальнейшем необходимо изучать силу права путем обращения к научным трудам исследователей русского зарубежья, рассмотрения позиции ученых исторической школы права и сторонников концепции естественного права.
Юридическая сила, сила нормы права, юридический позитивизм, нормативный правовой акт, иерархия нормативных актов, законодательство, утрата силы, юридическое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/149144641
IDR: 149144641 | УДК: 342.3 | DOI: 10.24158/tipor.2024.1.16
Текст научной статьи Юридическая сила: нормативистский аспект
Сила является, очевидно, одним из универсальнейших научных понятий для описания общих закономерностей существования материи. Известно, что в естествознании «сила» становится ключевой категорией в представлении о мере воздействия одних объектов или фрагментов реальности на другие. В теории права этот термин выступает в качестве родового понятия и используется для представления о юридической силе как элементе функционирования права в качестве социального регулятора. В.В. Черников рассматривает силу, применяемую в сфере правового регулирования, как «разновидность государственного принуждения, заключающуюся в ограничении свободы поведения правонарушителя, а в определенных случаях – и других категорий лиц» (Черников, 2013: 40).
В этом аспекте сила представляет собой правомерное применение власти посредством узаконенного физического или психического принуждения. Проблема соотношения права и силы (а в более узком смысле – вопрос о силе права в качестве регулятора поведения участников общественных отношений) – одна из наиболее значимых в теоретической юриспруденции. Не решив ее, невозможно познать целостную природу правовых явлений и основных факторов развития систем законодательства.
Надо отметить, что экспликация понятия «юридическая сила» в теории права весьма многообразна – рамки его дефиниции соотносятся с вариативностью применения. На практике юридическая сила обусловливает действенность нормативно-правовых актов, отдельных норм права, а также правомочность сделок и обоснованность судебных доказательств. Поэтому любое определение юридической силы должно быть, с одной стороны, достаточно конкретным, а с другой – охватывать все многообразие явлений, обозначаемых данным понятием. Наиболее часто юридическая сила выступает в качестве атрибута определенного нормативно-правового акта или юридического документа. Именно в этом контексте термин используется Конституцией РФ1, в статье 15 которой содержится нормативное указание на ее первостепенный статус в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федерации – «высшая юридическая сила». В более широком значении последняя представляется качеством, которым может обладать любой правовой акт, включая акты правоприменения и правоинтерпретации. При таком подходе к совокупности актов, обладающих определенной юридической силой, используется понятие «документ».
Е.А. Ларина и С.Ю. Суменков предлагают рассматривать понятие «юридическая сила» прежде всего как отражение волевого усилия определенного властного субъекта для придания тому или иному действию «статуса юридически значимого, обладающего юридической силой» (Суменков, Ларина, 2023: 37). Для этого данное действие должно быть документально оформлено и официально опубликовано. Именно властное веление становится «стержнем» рассматриваемой конструкции, объединяя в себе формальный и содержательный аспекты выражения распорядительного действия в отношении какого-либо явления. Подобный подход догматически увязывается с отождествлением понятий «власть» и «сила», и, кроме того, при определенном ракурсе становится одним из ключей к разрешению теоретической дилеммы о юридической силе. Надо, однако, принимать во внимание, что отождествление власти и силы ведет к подчинению юридической силы документа факту наличия властно-распорядительного субъекта, что является отличительной чертой позитивистского правопонимания. Отождествление права с волей государства дает возможность видеть в юридической силе документа проявление этатизма.
А.В. Мицкевич рассматривает юридическую силу как свойство, определяющее характер соотношения правового акта «с другими видами актов государственных органов»2. Эта дефиниция выводит на первый план единственное проявление юридической силы правового акта – ее способность выступать средством упорядочивания законодательной системы. При этом подходе объем рассматриваемого понятия сокращается до систематизации всего многообразия правовых актов, прежде пребывавших в хаотическом состоянии. Конечно, это не единственная функция. Наряду с иерархизацией Д.И. Здунова рассматривает юридическую силу как характеристику влияния правового акта на нормы или иные установленные им предписания3. Но это уточнение лишь развивает упомянутую выше систему взаимного подчинения и приоритетности как средство оформления внутренней структуры законодательства. Форма предмета может послужить основанием для его классификации, но сам факт его отнесения к определенной группе в соответствии с формой не объясняет, в чем заключается его сущность. Так и юридическая сила, выступая критерием иерархии правовых актов, позволяет упорядочить их систему, однако ее природа не может быть объяснена самим этим фактом.
Некоторые исследователи предлагают рассматривать юридическую силу как свойство документа, которое сообщается ему «посредством выполнения ряда определенных, установленных действующим законодательством требований» (Королев, 2014: 67). Данный процедурный подход соответствует, прежде всего, конституционному предписанию об обязательности официального опубликования законов и иных нормативно-правовых актов (часть 3 статьи 15 Конституции РФ1). Именно с официальным опубликованием (как кульминацией придания известного качества) связывается момент возникновения у правового акта юридической силы. При таком подходе происходит отчасти замещение сущности, самой идеи юридической силы, процедурой придания ее правовому акту. Но нельзя подменять сущность того или иного явления процессом его возникновения. Тот факт, что юридическая сила придается правовому акту в определенный момент времени (а для этого требуется соблюдение требований конкретных правотворческих процедур), сам по себе не раскрывает природы изучаемого явления.
Можно заметить, что общей чертой рассмотренных выше подходов к пониманию природы юридической силы является некоторая ограниченность сферы действия данного феномена. Исследователи изучают ее лишь по отношению к нормативно-правовым актам, то есть документам, исходящим от самого государства. Связанность с ним, безусловно, объясняет внимание к процедурным или иерархическим аспектам действия юридической силы. Однако не все правовые акты исходят от государства. Это могут быть, например, договоры, которые также способны обладать или не обладать юридической силой.
Гражданское законодательство Российской Федерации не оперирует понятием «юридическая сила сделки», хотя известна его усеченная форма – «сила сделки» (статья 166 Гражданского кодекса Российской Федерации2). Представление о юридической силе сделки присутствует и в международно-правовых соглашениях, связывающих данное качество с соблюдением требований национального законодательства. В правовой доктрине юридическая сила сделки обычно отождествляется с ее законностью, то есть с соблюдением требований законодательства о порядке заключения сделки. В силу данного понимания юридическая сила сделки иногда отождествляется с законной силой как «условием соблюдения требований законодательства» (Ларина, 2019).
Вопрос о соотношении юридической силы и законности правового акта весьма значим, поскольку в обиходе утрата документом юридической силы фактически рассматривается как его незаконность, то есть утрата качества соответствия действующему законодательству или результативности юридического воздействия. Вдвойне риск отождествления категорий возрастает при позитивистском ракурсе рассмотрения проблемы юридической силы, ведь отождествление права и закона означает, что законным является лишь тот акт, что исходит (или формализован) государством в виде позитивного права. Однако законность является более широким понятием, чем юридическая сила. Нормативно-правовой акт, который ввиду соблюдения определенных правотворческих процедур и официального опубликования приобрел свойство юридической силы, впоследствии может быть признан судом незаконным.
Так, например, Г. Кельзен пытается истолковать нормативную базу юридической действительности. В его нормативистском подходе государство представляет собой ту архимедову точку, с которой нормы могут объективно восприниматься как правовые. Согласно Г. Кельзену, государство является «олицетворением правового порядка» – «акт, совершенный человеческим существом, может быть вменен государству, если этот акт специфическим образом определен правовым порядком» (Кельзен, 2013: 231).
Таким образом, по мнению Г. Кельзена, наука о праве является нормативным и дедуктивным ценностным знанием, подобно этике и логике. Однако она не предписывает, что должно быть законом, а лишь фиксирует то, что, согласно условиям, установленным в самом законе, должно им считаться. По мнению А.Б. Дидикина, следуя дихотомии фактов и норм, Г. Кельзен утверждает, что действительность права может быть установлена только на нормативных основаниях. Основание юридической силы нормы права «не может быть фактом, даже актом воли, создающим нормы, а может быть только нормой, другой, высшей нормой» (Дидикин, 2016: 341).
Необходимо принимать во внимание, что юридическая сила как комплексная категория теоретической юриспруденции обладает рядом атрибутивных признаков. Подразумевающая общеобязательность акта, она выполняет нормативную функцию упорядочения поведения участников общественных отношений и стабилизации социальной среды. Юридическая сила оказывает непосредственное воздействие на поведение субъектов правоотношений и, таким образом, для своего осуществления не нуждается в доказательстве ее действенности в каждом конкретном случае правоприменения. Наконец, для юридической силы типична лимитированность действия во времени, пространстве, а также для круга лиц. Известно, что правовые акты обладают определенной темпоральной характеристикой и не могут применяться по отношению к общественным отношениям, возникшим до момента вступления данного правового акта в законную силу (запрет обратной силы). Исключение составляет ситуация, когда более мягким было прежнее установление, и суд «применит хотя и утративший силу, но продолжающий действовать в данном уголовно-правовом отношении закон» (Кузнецова, 2022: 32).
Юридическая сила производит определенные, имеющие юридическое значение последствия для общественных отношений. Источником ее является властное предписание, которое оформляет государственную волю в определенном юридическом документе, фиксирующем нормативное требование. Важнейшим свойством процесса придания юридической силы становится именно оформление документа в соответствии с процедурными требованиями, совокупность которых складывается в систему признаков документообразующего характера. Оформление властного предписания предполагает наличие инициатора придания юридической силы, то есть субъекта, наделенного полномочиями по ее продуцированию. Неверно отождествлять данного субъекта только с публично-правовыми, так как продуцировать юридическую силу могут также частноправовые субъекты, например, при заключении гражданско-правового договора.
При определении природы юридической силы следует буквально устанавливать характер воздействия того или иного правового явления. В области правового регулирования общественных отношений юридическая сила показывает процесс воздействия конкретного правового средства на поведение участников общественных отношений. Оно должно иметь результативный характер – это качество было выявлено С.С. Алексеевым по мере эволюции его доктринальных представлений о механизме правового регулирования1.
Результативность юридического воздействия не тождественна эффективности, но означает способность правовых средств (инструментов) обеспечивать определенные результаты юридического характера. Важно отметить, что в структуре механизма такого регулирования обыкновенно присутствуют именно правовые средства, а не конкретные разновидности правовых актов, что типично для рассмотренных выше определений юридической силы. Отечественная юриспруденция делает заметный акцент на рассмотрении вопроса о юридической силе правовых актов, что устраняет возможность более локального применения данной категории. Если носителем юридической силы является весь правовой акт в целом, то трудно объяснить, почему тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации содержат указания «абзац утратил силу» или «статья утратила силу».
Если отдельная статья нормативно-правового акта может утратить силу, а сам нормативно-правовой акт при этом сохранить свое действие, то, стало быть, изначально носителем юридической силы было все нормативное содержание данного правового акта, то есть вся совокупность правовых норм. Однако то, что рассмотренные выше позиции сосредоточены исключительно на действии юридической силы правового акта в целом, позволяет признать: данная категория (юридическая сила) применяется преимущественно к системе законодательства, а не к системе права. Этот, достаточно ограниченный, подход не отвечает потребностям развития современной теории права.
Юридическая сила как качество, определяющее результативность правового воздействия на общественные отношения, должна быть соотнесена с пониманием структуры механизма правового регулирования. Эта структура не ограничивается правовыми актами как дискретными единицами юридической реальности. В современной юриспруденции она рассматривается как совокупность систем правовых средств, под которыми С.С. Алексеев предлагал понимать «институциональные явления правовой действительности, воплощающие регулятивную силу права, его энергию» (Алексеев, 1995: 223). В этом отношении правовые средства могут быть представлены нормами права, правоприменительными актами, договорами и пр.2
Следовательно, носителем юридической силы может являться каждая отдельная норма права, отдельное положение гражданско-правового договора или иного структурного элемента юридического документа. Юридическая сила принадлежит не отдельным формам права, но «юридическим нормам, которые системно размещены в их содержании» (Спирин, 2023: 28). Она не может отождествляться ни с порядком придания конкретных качеств правовому средству, ни с результатом его применения. Юридическая сила конкретного правового инструмента проявляется в его юридической пригодности, в принципиальной возможности его использования как средства регулирующего воздействия. При этом средство, обладающее юридической силой, только тогда становится правовым, когда имеет определенную правовую основу для применения, то есть облекается в надлежащую юридическую форму.
Употребление категории «юридическая сила» может быть расширенным, выходящим за пределы собственно системы законодательства, и применяться по отношению к системе права в целом. Однако для этого требуется формирование адекватного представления о разновидностях юридической силы, которые позволяют определить предметные области применения данной категории. Это требует обращения к вопросу о классификации юридической силы.
Классификация является средством познания, позволяющим исследовать правовые явления, группируя их по общему признаку. Для соблюдения последовательности классификации следует определить основание, выступающее в качестве критерия видового деления изучаемого явления. Е.А. Ларина и С.Ю. Суменков предлагают несколько оснований для классификации юридической силы: компетентность правоиздающего субъекта, иерархичность, источник (форма права), структурный элемент нормативно-правового акта и степень значимость действий субъекта (Суменков, Ларина, 2023).
Первое основание позволяет выделить официальную юридическую силу и неофициальную, которую Е.А. Ларина и С.Ю. Суменков усматривают в неформализованных источниках права (судебный прецедент), а также в тех документах, что могут быть приравнены к юридическим.
Критерий иерархичности дает возможность выделить акты, имеющие три вида юридической силы – высшую, равную и низшую. Очевидно, что такая классификация соответствует самой логике упорядочения системы законодательства.
В зависимости от источника права юридическая сила может принадлежать нормативному правовому акту, нормативному договору, правовому прецеденту, правовому обычаю. Также Е.А. Ларина и С.Ю. Суменков дифференцируют юридическую силу актов правоприменения и официального толкования, договорных актов.
Упоминая о структурных элементах нормативного правового акта, исследователи выделяют юридическую силу нормативных предписаний и дефиниций; степень значимости действий субъекта различает юридическую силу актов первостепенного и второстепенного значения (Су-менков, Ларина, 2023).
Данная классификация вновь подчеркивает изначальную ограниченность пространства применения категории «юридическая сила» исключительно системой правовых актов, принимаемых уполномоченными субъектами. Данный подход вполне соответствует общепринятому в отечественной юриспруденции взгляду на юридическую силу как на вопрос действенности законодательства, в то время как имеются все основания применить данное понятие к праву в целом, расширив границы его понимания до проблемы силы права. Между тем эта ограниченность трактовок обнаруживается и в отраслевых правовых исследованиях, дедуктивно применяющих разработанную в теории права категорию «юридическая сила». Происходит приложение ее сути к разрешению узких вопросов отраслевого регулирования. Например, в процессуальных науках юридическая сила трансформируется в представление о законной силе правоприменительного акта, чаще всего – судебного решения. Законная сила судебного решения представляет собой разновидность юридической силы, отличающей акт волеизъявления органа правосудия при разрешении юридического дела. Судебный акт, обладающий атрибутом законной силы, должен быть неопровержимым, общеобязательным и исключительным. Приобретение судебным актом данных свойств в определенный момент времени рассматривается в юридической литературе как «момент вступления судебного решения в законную силу» (Дикарев, 2015: 39).
Неопровержимость подразумевает невозможность отмены или изменения судебного решения – истина, установленная по конкретному делу, обнаруживается только единожды. Обязательность акта правосудия свидетельствует о его авторитетности как акта государственной власти. Исключительность акта правосудия подразумевает его эксклюзивное предназначение для разрешения конкретного юридического дела, что обусловливает «невозможность дважды рассматривать в судебном порядке спор по тождественным искам»1.
В науке процессуального уголовного права категория «юридическая сила» применяется в частной теории судебных доказательств, в рамках которой сведения о фактах, имеющих доказательственное значение, могут иметь или не иметь юридической силы. Для процессуалистики рассмотрение природы доказательств обыкновенно сводится к конкретизации порядка установления таких качеств, как допустимость, относимость, достоверность и достаточность (Ишмаева, 2015: 133). Советское процессуальное законодательство содержало понятие о юридической силе доказательства, что позволяло рассматривать данное качество как общее заключение, даваемое при оценке соответствия добытых доказательств установленным требованиям закона. Отсюда проистекала доктринальная позиция В.И. Зажицкого, отождествлявшего допустимость доказательства и его юридическую силу (Зажицкий, 1999: 26).
Однако сама возможность применения категории «юридическая сила» в теории судебных доказательств ставится в зависимость от решения вопроса о носителе юридической силы. Если преобладающий догматический подход подразумевает, что носителем юридической силы может быть только правовой акт, то рассмотрение проблемы юридической силы доказательств невозможно. Если же теория права предложит более широкий подход, согласно которому юридической силой может быть наделено любое правовое средство, используемое для результативного воздействия на общественные отношения, то применение данной категории в теории судебных доказательств окажется правомерным.
При рассмотрении доказательства по уголовному делу как конкретного правового средства, применяемого судом для разрешения уголовно-правового конфликта, наличие у него качества юридической силы следует расценивать, прежде всего, с позиций соответствия требованиям процессуального закона. Иными словами, юридическая сила доказательства в этом случае отождествляется с его законностью. Всякие сведения по фактам, имеющим значение для дела, не могут обладать юридической силой по умолчанию. Следовательно, данным качеством доказательство наделяется в момент завершения его оценки судом с положительным итогом. Исключение доказательства из доказательственной базы по юридическому делу является примером «применения норм закона о признании отсутствия юридической силы доказательств»1.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что интерпретация юридической силы как атрибута права слабо представлена в российской теории государства и права, которая в наибольшей степени ориентирована на оценку юридической силы актов, входящих в систему законодательства. Это, по сути, сильно суживает поле изучения данной проблематики. Дальнейшие изыскания должны быть ориентированы на рассмотрение проблем юридической силы в гораздо более широком контексте, с учетом теоретического анализа концепции силы права, более развернуто представленной в научной юридической литературе русского зарубежья ХХ в. Кроме того, еще ждет своего исследователя вопрос соотношения силы и права в иных типах правопо-нимания, помимо нормативистского. Так, например, в исторической школе права юридическая сила черпается из народного духа, в школе естественного права – из трансцендентного закона всеобщей справедливости.
Список литературы Юридическая сила: нормативистский аспект
- Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 320 с.
- Дидикин А.Б. О статье Г. Кельзена «Об основной норме» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 2 (34). С. 339–344. https://doi.org/10.17223/1998863X/34/39.
- Дикарев И.С. Принцип правовой определенности и законная сила судебного решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. 175 с.
- Зажицкий В.И. О допустимости доказательств // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 26–27.
- Ишмаева Т.П. К вопросу о юридических свойствах доказательств в уголовном процессе // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 23 (378). С. 133–136.
- Кельзен Г. Право, государство и справедливость в чистом учении о праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 2 (307). С. 226–240.
- Королев В.В. Проблемы юридической силы электронных документов // Евразийский союз ученых. 2014. № 6–3 (6). С. 67–68.
- Кузнецова О.А. Место понятий «юридическая сила», «действие во времени», «применение» правовых норм в категориальном аппарате различных отраслей права // Ex Jure. 2022. № 2. С. 19–35. https://doi.org/10.17072/2619-0648-2022-2-19-35.
- Ларина Е.А. Юридическая сила договорных актов // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 112–113.
- Спирин М.Ю. Источник права и юридическая сила: соотношение сущностей категорий // Наука. Общество. Государство. 2023. Т. 11, № 2 (42). С. 24–32. https://doi.org/10.21685/2307-9525-2023-11-2-3.
- Суменков С.Ю., Ларина Е.А. Юридическая сила как общеправовой феномен (доктрина и практика). М., 2023. 144 с.
- Черников В.В. Юридическая конструкция силы в полицейском законодательстве России // Юридическая техника. 2013. № 7–2. С. 39–48.