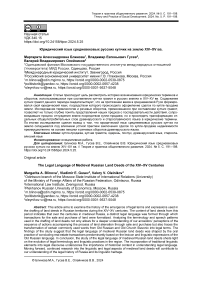Юридический язык средневековых русских купчих на землю XIV-XV вв
Автор: Блинова М.А., Гусев В.Е., Олейников В.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья преследует цель рассмотреть историю возникновения юридических терминов и оборотов, использовавшихся при составлении купчих грамот в русских землях в XIV-XV вв. Содержание купчих грамот данного периода свидетельствует, что на протяжении веков в средневековой Руси формировался свой юридический язык, посредством которого происходило оформление сделок по купле-продаже земли. Исследование терминологии и речевых оборотов, применявшихся при составлении купчих грамот, позволяет не только глубже понять представления наших предков о последовательности действий, сопровождавших процесс отчуждения земли посредством купли-продажи, но и проследить трансформацию отдельных общеупотребительных слов древнерусского и старославянского языка в юридические термины. По итогам исследования сделан вывод о том, что юридический язык средневековых русских купчих на землю складывался под влиянием устной практики заключения сделок по купле-продаже недвижимости преимущественно на основе лексики и речевых оборотов древнерусского языка.
Купля-продажа, купчая грамота, одерень, послух, древнерусский язык, старославянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149145856
IDR: 149145856 | УДК: 340.15 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.25
Текст научной статьи Юридический язык средневековых русских купчих на землю XIV-XV вв
3Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия , , ,
3Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia , , ,
Введение . Вопрос, когда в древнеславянском обществе зародилась купля-продажа земли, остается достаточно сложным в историко-правовой науке в силу того, что сохранилось крайне мало свидетельств о заключении сделок подобного рода в Древней Руси. Ни Краткая, ни Пространная редакции Русской Правды не содержали норм, связанных с куплей-продажей земли. Вместе с тем отдельные упоминания о сделках по купле-продаже земли имеются в берестяных грамотах, обнаруженных в ходе археологических раскопок в Новгороде и датируемых второй половиной XII – началом XIII в. Так, в грамоте конца XII в. № 779 автор послания пишет: «я ведь купил землю …» (Зализняк, 2004: 413), в грамоте № 510, датируемой концом XII – началом XIII в., другой автор пишет о том, что «торговали селом» (Арциховский, Янин, 1978: 108).
Факт купли-продажи земли был засвидетельствован граффито № 25 на стене Софийского собора г. Киева – надписи на стене, в которой сообщается, что некая княгиня, супруга князя Всеволода, приобрела Боянову землю за 70 собольих гривен или 700 гривен в драницах. Надпись датируется первой половиной XII в. и является одним из древнейших свидетельств купли-продажи земли в древнерусских землях (Дробышева, 2020: 133). О факте покупки земли говорится в грамотах Антония Римлянина, основателя Антониева монастыря в Новгороде в первой половине XII в., который, согласно данной грамоте монастырю и духовной грамоте, приобрел землю для мона-стыря1. Однако о грамотах известно, что они сохранились в списках XVI в., и однозначно вопрос об их подлинности среди ученых-историков не решен. Содержание еще одного документа – Духовной Климента, датируемой XIII в., по мнению Ю.Г. Алексеева, свидетельствует об имевшей место замаскированной купле-продаже земли (Алексеев, 1974: 130), т. к. здесь говорится о передаче земельных владений монастырю в счет уплаты долга, а также нескольким частным лицам в счет суммы, выплаченной в качестве выкупа автора духовной грамоты из литовского плена2.
Первые из сохранившихся купчих грамот на недвижимое имущество относятся к середине – второй половине XIV в. Гораздо больше их уже было в XV в., когда письменное оформление сделок по купле-продаже земли стало происходить на постоянной основе. Содержание русских купчих в разное время изучалось историками А.С. Лаппо-Данилевским, М.Б. Свердловым, В.Ф. Андреевым и другими. Вместе с тем исследование применявшихся в русских купчих XIV – XV вв. юридических оборотов и терминов носило, скорее, фрагментарный характер. В свою очередь, исследование данной историко-правовой проблемы актуально и в наши дни, когда развитие науки и техники ставит на повестку дня необходимость правового регулирования новых общественных отношений и разработки соответствующей юридической терминологии.
Методология . В ходе изучения данной историко-правовой проблемы авторы обратились к древнейшим свидетельствам заключения договора купли-продажи недвижимости – берестяным грамотам, граффито № 25 на стене Софийского собора в Киеве, а также, собственно, к купчим грамотам, датируемым серединой XIV – XV вв. Анализ данных источников позволил проследить происхождение и развитие юридических терминов, которые в дальнейшем использовались в купчих грамотах. Формально-юридический метод позволил уяснить смысл отдельных понятий купчих грамот, а сравнительно-правовой метод – выявить некоторые особенности содержания купчих грамот в зависимости от места их составления. В работе также использовались данные исторической лингвистики.
Результаты и обсуждение . Практика купли-продажи земли не могла получить развитие без оформления частного землевладения. Во времена составления Русской Правды (XI – XII вв.) частное землевладение еще не имело широкого распространения. Согласно Русской Правде, если смерд умирал, не оставив потомство мужского рода, его землю наследовал князь (ст. 90 Пространной редакции Русской Правды). Иная ситуация складывалась применительно к боярскому землевладению. Земли лиц, составлявших высший социальный слой, могли наследовать дочери в случае отсутствия наследников мужского пола (ст. 91), то есть тем самым было положено начало формирования частного землевладения. В Западной Европе такой тип землевладения назывался аллод, а в древнерусских землях – вотчина.
Наиболее древние редакции Русской Правды датируются XI – началом XII в. Первые свидетельства об имевшей место купле-продаже земли также относятся к XII в., однако собственно купчими грамотами на землю данного периода мы не располагаем.
По мнению многих историков (Лаппо-Данилевский, 2007: 182; Свердлов, 1976: 51–52), сделки по купле-продаже земли, скорее всего, первоначально совершались в устной форме, а в XIV в. уже начала складываться практика оформления письменных актов, которая подразумевала применение юридических терминов и речевых оборотов, свойственных деловой речи данного периода. Ю.Г. Алексеев отмечал, что, скорее всего, сделки с землей долгое время совершались внутри общины, устно, при свидетелях – «суседях» (Алексеев, 1974: 141). В доказательство он приводил статью 9 Псковской Судной грамоты, которая, на его взгляд, лишь закрепляла старое обычное право, когда в случае земельных споров право владения участком подтверждалось соседями в количестве четырех-пяти человек. Таким образом, порядок передачи земли формировался в сравнительно узком кругу, среди общинников, способных подтвердить право на землю того или иного владельца. Не случайно в новгородской Духовной грамоте Климента XIII в. говорилось о соседе, который должен был показать наследнику границы земельного участка: «…а заводник сусед мои Опаль»1.
Земля, по мнению Ю.Г. Алексеева, в древнейший период, скорее всего, редко отчуждалась в руки посторонних лиц, но и в таких случаях ее передача происходила в рамках устоявшейся устной процедуры, включавшей обрядовые действия и произнесение определенных формул. В.Б. Кобрин также полагал, что на территории небольшого княжества устные сообщения соседей выступали более надежным свидетельством, нежели письменный документ, который мог быть подделан (Кобрин, 1985: 34).
В силу крайне небольшого числа свидетельств о купле-продаже в древнейший период особый интерес для изучения становления юридического языка русских купчих представляет граффито № 25 на стене Софийского собора в Киеве. В надписи указывался объект сделки – Боянова земля, сумма сделки – 700 гривен, поименно были названы свидетели сделки (послухи) – священнослужители, что в общих чертах соответствовало формуляру купчих грамот более позднего периода (Свердлов, 1976: 60; Никитин, 1992: 361). Мы не располагаем сведениями, имел ли место отдельный письменный договор, на основании которого была составлена данная памятная запись. Вполне возможно, что сделка носила устный характер, а затем для надежности информация о ней появилась на стене собора.
Содержание граффито о Бояновой земле интересно еще и тем, что в тексте упоминаются два термина в значении «купить» – «крила» (неопределенная форма – «кренеть») и «купи». Надпись начиналась со слов: «Месяца енваря в 30-е (на) Святого Ипполита крила землю княгини Боянью Всеволожа …», а далее здесь говорилось: «а перед тими послухы купи землю княгыни Боянью всю; а вдала на неи семдесят гривен соболии, а в том драниц семьсоту гривен» (Высоцкий, 1985: 123).
Предположение о том, что термин «кренеть» означает «купить», было высказано еще Н.М. Карамзиным, в дальнейшем эту версию поддержал историк русского права П.Н. Мрочек-Дроздовский2. Впоследствии выдающийся российский лингвист А.А. Зализняк убедительно доказал, ссылаясь на материалы берестяных грамот, древнерусские договоры и данные сравнительной лингвистики, что указанный термин употреблялся в Древней Руси в значении «купить» (Зализняк, 1986: 174–175). Однако почему оба термина были использованы в определенной последовательности в граффито № 25, определенного ответа нет.
А.Л. Никитин полагал, что слово «крила» употреблено здесь в смысле «сторговаться», а глагол «купи», собственно, означал передачу денег (Никитин, 1992: 362). Дробышева М.М. не согласилась с доводами А.Л. Никитина. Ссылаясь на работы А.А. Зализняка, она отметила, что глагол «крити» был уже достаточно изучен, и значение «сторговаться» к нему не подходит (Дробышева, 2020: 139).
Между тем, Э. Бенвинист обратил внимание на следующую интересную особенность – в языках многих индоевропейских народов встречались два термина в значении «купить». Один из них употреблялся в более широком значении, включавшем «купить, поторговавшись с продавцом», а также «желать купить, приценяться», то есть намерение заключить сделку. Другой термин обозначал фактически денежную операцию – передачу материальных ценностей за покупаемую вещь. Таким образом, как отмечал Э. Бенвинист, покупка и оплата понимались у древних народов как два разных момента одного и того же действия, при этом «оплата следует за совершением покупки и за договоренностью о цене»3.
Несмотря на то, что граффито № 25 представляет собой памятную запись, вряд ли ее составители произвольно использовали те или иные термины и речевые обороты. Даже если от- сутствовал отдельный письменный договор, устная форма заключения сделки, скорее всего, предполагала последовательное употребление определенных словесных формул, означавших намерение совершить сделку, символическую передачу земли посредством сложившегося в обычном праве ритуала, как это имело место, например, у древних римлян и древних германцев1, и, собственно, процедуру передачи денег. Поэтому применение двух терминов в значении «купить» в граффито № 25, скорее всего, было неслучайным.
В XIII в. термин «кренеть» выходит из употребления (Зализняк, 1986: 175), окончательно уступив место глаголу «купить».
XIV в., как отмечал Ю.Г. Алексеев, стал переломным в развитии земельной собственности в русских землях (Алексеев, 1974: 141). Частное землевладение, очевидно, демонстрировало тенденцию к росту. Об этом, в частности, свидетельствуют статьи Псковской Судной грамоты2, в которых, в отличие от Русской Правды, мы встречаем гораздо больше положений и о порядке наследования земли, о ее дарении, залоге. Кроме того, ряд статей (ст. 10, 13, 79, 104, 106) демонстрирует также расширение практики обращения сторон к земельным актам, когда решался спор о принадлежности земли, о меже и т. п.
Интересно, что первое упоминание в берестяных грамотах о письменном документе, фиксировавшем факт купли-продажи земли, относится к XIV в. В новгородской грамоте № 53, датируемой 20-ми гг. XIV в., автор (Петр), обращаясь к адресату (Марье), пишет о споре из-за межи на сенокосных угодьях и просит прислать список с купчей грамоты, в которой будут указаны границы принадлежащей ему земли (Зализняк, 2004: 540).
Во второй половине XIV – XV вв. складываются черты формуляра, на основании которого составлялись купчие грамоты, включавшие устойчивые выражения (формулы) и определенную терминологию.
Купчие грамоты начинались с достаточно употребительного оборота, обозначавшего, что одно лицо купило землю у другого лица: «се купи» («вот купил») или «се яз … купил …» (вот я купил) в зависимости от места составления. И.С. Улуханов отмечает, что оборот «се купи», употреблявшийся в древнерусских купчих, выступает примером устойчивых выражений, применявшихся в деловой письменной речи (Улуханов, 1972: 103). Грамоты в новгородской земле начинались со слов «се купи» («вот купил»), т. е. писались в третьем лице, что, по мнению В.Ф. Андреева, было следствием влияния западноевропейских практик написания частных актов (Андреев, 1986: 76). Для западноевропейской традиции действительно было свойственно составление актов в третьем лице – это прослеживается, например, в актах купли-продажи земли в Северной Италии XIV в. (Срединская, 2017). Подобным образом составлялись псковские купчие: «Се ку-пиша Антоне з братьею у Якима село землю …» (Марасинова, 1966: 52).
Грамоты Северо-Восточной Руси начинались иначе – «се яз (азъ) купил». Пример употребления данной формулы можно увидеть в старейшей из известных нам белозерских купчих 1340– 1380-х гг. на село Вашки с отводом: «… се яз Павел Харитонов, купил есми у Ильи у Краковля село Вашкеи, его вотчиную землю боярскую…» (Кобрин, 1970: 407). Необходимо отметить, что практика написания купчих от первого лица, правда от имени продавца, имела место в Византии3. Возможно влиянием византийской правовой традиции объясняется примение оборота «се яз (се азъ)» в купчих Северо-Восточной Руси, в то же время он мог иметь непосредственную связь и с древнерусской устной традицией заключения договора, когда произносились определенные формулы.
Некоторые грамоты писались от имени продавца и начинались со слов: «се продаша», в частности, «Купчая Климентия Ивановича Воскресенской церкви на землю в Михееве берегу» середины XV в.4
Иногда купчие начинались с религиозной формулы: «По благословлению…» и указывалось имя духовного лица, давшего благословление на совершение сделки, как, например, в купчей № 108, совершенной от имени Спасского Верендовского монастыря, датируемой 1389–1415 гг.5
Далее в грамотах сообщалось о местонахождении и границах покупаемого участка. Для этого употреблялись термины: «обвод», «завод», «межа». В качестве примера можно привести псковскую «Купчую Антона с братьями на село земли у Якима» первой половины XIV в., в которой описывался т. н. «завод тои земле», т. е. границы земельного владения: «…изо мха с Офонасом кроем до Ульяниных кроев …» (Марасинова, 1966: 51). Иногда составители грамоты не приводили подробного описания границ и обходились формулой «куда мой топор, соха, плуг ходили»1. Похожие формулировки, как отмечал А.Г. Станиславский, встречались в древнеримском и древнегерманском праве. В этой связи он предположил, что данная формула возникла у древних народов еще в тот период, когда сделки по купле-продаже земли носили устный характер2.
Следующий термин, который часто встречается в купчих грамотах – «одерень», происходивший, вероятнее всего, от слова «дёрн», и употреблявшийся в значении «вовек, навсегда».
Происхождение данного термина уходит корнями вглубь веков, когда дерн использовался при осуществлении различных символических действий. Кусок дёрна фигурировал, например, в обряде братства, совершаемом скандинавскими воинами: вступавшие в союз вонзали в землю копья выше человеческого роста, сверху на копья клали кусок дёрна, потом становились под него, каждый делал надрез на руке или ноге, чтобы струившаяся кровь мешалась с землей, затем преклонив колена и соединив ладони правой руки, они клялись всеми богами мстить друг за друга3. Дерн проносился над головой лица, совершавшего самопродажу в рабство, отсюда выражение «одерноватый холоп», то есть проданный навсегда4.
Процедура передачи объекта недвижимости в собственность, вероятнее всего, также сопровождалась символической передачей предмета, связанного с данным участком земли, – ветки дерева, куска земли – дёрна, именно данной процедурой можно объяснить появление в купчих речевого оборота «в одерень» в значении «вовек, навсегда» (Свердлов, 1976: 51).
Следующая речевая конструкция использовалась для обозначения цены покупаемой недвижимости – «а дал есми…», т. е. указывалась цена земли. Довольно распространенной практикой было указание т. н. «пополонка» – дополнения к уплачиваемой денежной сумме за землю. Например, в одной из двинских купчих конца XIV – начала XV в. говорилось: «А дали на неи три рубли да овцу пополонка»5.
Завершалась купчая указанием имен свидетелей сделки – «а послухи …», присутствовавших при оформлении грамоты, или «на заводе земли», начинавшееся словами: «а на то люди доб-рые…»6, «а на то послуси»7 или «а на сей торговли были…»8. Иногда заключительная часть купчей содержала имена заводчиков, показывавших границы приобретенного имения. Так, например, купчая докладная (с отводом) Белозерского монастыря игумена Кирилла на пожню в Вижкшинском наволоке, купленную у Кореня, датируемая рубежом XIV – XV вв., завершалась словами – «а на отводе были» и перечислялись имена свидетелей, присутствовавших при определении границ покупаемой земли9. Отдельные купчие грамоты указывали имя составителя, например, купчая Михаила Федоровича (Крюка) заканчивалась словами: «А купьцую писал Яков Бобровников».
Русские купчие XIV – XV вв. редко включали условия, призванные оградить стороны от возможных судебных споров. Но вместе с тем некоторые из них в заключительной части содержали запретительную религиозную формулу, начинавшуюся словами: «А хто на ту землю наступит…», т. е. посягнет, и далее покупатель грозил божьей карой10.
М.В. Свердлов, подробно изучив формуляр договорных грамот XIV – XV вв., пришел к выводу, что они, по сути, повторяли саму процедуру заключения договора, а сами формулы слово-говорения, излагавшие условия сделки, обрядовые действия клятвы, крестоцелование восходят еще к языческому периоду и подверглись изменениям в связи с христианизацией Руси (Свердлов, 1976: 65). Формулы в виде сочетаний слов, как полагал М.В. Свердлов, формировавшиеся в ходе устной практики, связанной с осуществлением акта купли-продажи, который требовал совершения обрядовых действий и участия свидетелей-послухов, в дальнейшем легли в основу письменного акта, оформлявшего сделку. Он также не исключал, что оба способа оформления сделки – устный и письменный – некоторое время вообще могли сосуществовать друг с другом (Свердлов, 1976: 67). Не случайно, как отмечал Ю.Г. Алексеев, в Псковской Судной грамоте закреплялись два способа доказательства владельческих прав: показания соседей (ст. 9) и грамоты на землю (ст. 10, 13 и др.) (Алексеев, 1974: 134).
Следует также отметить, что формуляр купчих не имел строго определенного характера. На эту особенность русских частных актов XIV – XV вв. указывал в том числе В.Б. Кобрин (1985: 33–34). В купчих могла отсутствовать формула о продаже «в одерень», не всегда давалось подробное описание земель, иногда не указывались и свидетели сделки. Это можно проследить на примере ряда купчих конца XIV – начала XV в. Северо-Восточной Руси1. В псковских купчих XV в. иногда и вовсе отсутствовала информация о стоимости продаваемого имущества2. В.Б. Кобрин отмечал, что многие ранние купчие, скорее, напоминали памятные записи (Кобрин, 1985: 33–34). Отсутствие некоторых положений в купчих можно объяснить сохранявшейся долгое время устной традицией, связанной с произнесением определенных словесных формул и применением символических процедур в ходе совершения сделки. А.С. Лаппо-Данилевский полагал, что частные акты в значительной мере оформились как продукты народного творчества и складывались на почве обычного народного права (Лаппо-Данилевский, 2007: 182).
Российский лингвист И.С. Улуханов также отмечал существование в средневековой Руси устной деловой традиции, в рамках которой вырабатывались деловые термины и устойчивые выражения, при этом составители деловых документов предпочитали использовать древнерусские слова и речевые обороты, в том числе свойственные разговорной речи (Улуханов, 1972: 97), что, конечно, не исключало использования отдельных славянизмов в устойчивых оборотах, применявшихся в деловой речи. Среди церковнославянизмов, употребляемых в деловой письменности, а в дальнейшем широко использовавшихся в купчих грамотах, можно отметить речевой оборот «се азъ» (вот я), включавший старославянское местоимение (Улуханов, 1972: 97). С.И. Иорданиди отмечает, что данная формула была достаточно распространена как в устной, так и письменной речи, и ее «внедрение» в деловую письменность «являлось процессом в известной степени органическим» (Иорданиди, 2019: 161). Вполне возможно, что широко представленный в русских купчих термин «послух» в значении «свидетель» также имел старославянское происхождение3.
Заключение . Таким образом, очевидно, что юридический язык средневековых русских купчих складывался в значительной степени под влиянием устной практики осуществления сделок по купле-продаже земли. Многие обороты, которые использовались в дальнейшем в купчих грамотах, складывались из формул, произносимых при заключении сделок еще в древнейшую эпоху. В рамках устной деловой традиции, связанной с нормами обычного права, вырабатывались термины, устойчивые выражения, характерные для разговорного древнерусского языка, с ограниченными заимствованиями из церковного старославянского языка, посредством которых закреплялись существенные условия договора купли-продажи земли: определение предмета сделки, цены, порядка произведения оплаты, процедуры передачи земли новому владельцу. Данная картина возникновения юридических терминов, в целом, соответствует процессу терминологизации, суть которого, по мнению В.Ю. Туранина, заключается в «использовании общеупотребительных слов в юридическом языке и придании им особого правового смысла» (Туранин, 2018: 42).
Использование в содержании купчих грамот терминов и оборотов, свойственных разговорному древнерусскому языку, делало их содержание для участников сделки в целом понятным и доступным, что вместе с тем не исключало имевших место недостатков в оформлении письменных актов, которые отчасти компенсировались действовавшими тогда нормами обычного права, устной практикой заключения договора купли-продажи земли.
Список литературы Юридический язык средневековых русских купчих на землю XIV-XV вв
- Алексеев Ю.Г. Частный земельный акт средневековой Руси (от Русской Правды до Псковской судной грамоты) // Вспомогательные исторические дисциплины. 1974. Т.VI. С. 125–141.
- Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII – XV вв. Л., 1986. 143 с.
- Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте: из раскопок 1962–1976 годов. М., 1978. 192 с.
- Высоцкий С.А. Киевские граффити XI – XVII вв. Киев, 1985. 207 с.
- Дробышева М.М. Граффито № 25 из Софии Киевской: что мы знаем о покупке «Бояновой земли»? // Вестник Пермского университета. История. 2020. № 1 (48). С. 130–145. https://doi.org/10.17072/2219-3111-2020-1-130-145.
- Зализняк А.А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Новгородские грамоты на бересте: из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986. С. 174–175.
- Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2 изд., перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004. 872 с.
- Иорданиди С.И. К истории начальной формулы грамот се азъ… в древнерусском языке // Славянское и балканское языкознание. Палеославистика-2. 2019. Вып. 17. С. 151–167. https://doi.org/10.31168/2658-3372.2019.7.
- Кобрин В.Б. Грамоты XIV – XV вв. из архива Кирилло-Белозерского монастыря // Археологический ежегодник за 1968 год: сб. статей. М., 1970. С. 406–410.
- Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 278 с.
- Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. СПб., 2007. 285 с.
- Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV – XV веков / под ред. А.М. Сахарова. М., 1966. 211 с.
- Никитин А.Л. О купчей на «землю Бояню» // Герменевтика древнерусской литературы. 1992. № 5. С. 350–369.
- Свердлов М.Б. Древнерусский акт X – XIV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Т. VIII. С. 50–68.
- Срединская Н.Б. Оформление сделок с недвижимостью в Ферраре XIV в. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. T. 8, № 8 (62). [Без пагинации]. https://doi.org/10.18254/S0001898-6-1.
- Туранин В.Ю. Феномен юридической терминологии: монография. М., 2018. 184 с.
- Улуханов И.С. О языке древней Руси. М., 1972. 137 с.