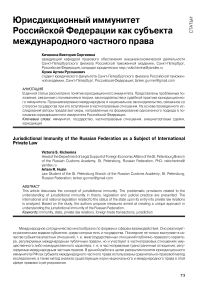Юрисдикционный иммунитет Российской Федерации как субъекта международного частного права
Автор: Киченина В.С., Хузин А.Р.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрено понятие юрисдикционного иммунитета. Представлены проблемные положения, связанные с пониманием в теории, законодательстве и судебной практике юрисдикционного иммунитета. Проанализировано международное и национальное законодательство, связанное со статусом государства при его вступлении в частноправовые отношения. На основе проведенного исследования авторы предлагают меры, направленные на формирование однозначного подхода в понимании юрисдикционного иммунитета Российской Федерации.
Иммунитет, государство, частноправовые отношения, внешнеторговые сделки, юрисдикция
Короткий адрес: https://sciup.org/14121099
IDR: 14121099
Текст научной статьи Юрисдикционный иммунитет Российской Федерации как субъекта международного частного права
Международное сотрудничество многообразно по формам и сферам взаимодействия. Оно реализуется различными видами субъектов, среди которых есть и государства. Последние не только выступают в качестве субъектов властных отношений, т. е. межгосударственных отношений публично-правового характера, регулируемых международным публичным правом, но и участвуют в частноправовых отношениях имущественного либо неимущественного характера, т. е. в частноправовые трансграничные отношения, регулируемые международным частным правом. В данной работе в целях раскрытия понятия юрисдикционного иммунитета РФ как субъекта международного частного права использованы сравнительно-правовой метод исследования, а также метод анализа существующих норм национального и международного права в этой сфере правового регулирования.
СТАТЬИ
Иммунитет государства — один из краеугольных институтов международного частного права, определяющих правовое положение государства в международных сделках и в целом в частноправовых трансграничных отношениях1. Иммунитет, в соответствии с которым государство при осуществлении им гражданско-правовых актов с субъектами национального права иностранных государств не подсудно иностранным судам, не подчиняется действию иностранных нормативно-правовых актов, освобождается от обеспечительных и принудительных мер по иску и исполнению судебного решения, а также ареста и реквизиции собственности, ранее было принято обосновывать обычно-правовой нормой, вытекающей из принципов суверенного равенства и уважения суверенитета государств, действующих в международном частном праве2. Исходя же из современной правовой действительности, был принят ряд актов национального и международноправового характера, которые в полной мере освещают указанные вопросы.
Первым и основным из таких источников выступает Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. Российская Федерация не подписывала и не ратифицировала данный международный договор, Однако 2 декабря 2004 г. резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (далее — Конвенция). Нормы данной Конвенции изменяют и дополняют нормы Европейской конвенции об иммунитете государств и во многом повторяют ее положения3. Исходя из положений п. 1 ст. 30 Конвенции, она вступает в силу после сдачи тридцатой ратификационной грамоты (на момент 2020 г. сдано только 22 ратификационные грамоты). Однако, несмотря на вышесказанное, для правовых реалий Российской Федерации, хотя бы с точки зрения теоретических подходов, данный документ является основным доктринальным источником в рассматриваемой теме ввиду следующего:
-
• с учетом изменений и дополнений более свежие (в сравнении с 1972 г.) нормы Конвенции отражают более современные подходы к пониманию юрисдикционного иммунитета государства;
-
• Конвенция была подписана и ратифицирована Российской Федерацией4;
-
• нормы Конвенции уже были частично имплементированы в национальное законодательство (ФЗ РФ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства» (далее — ФЗ РФ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства»).
Значение термина «иммунитет», исходя из буквального толкования всех положений Конвенции, а также приложения к данной Конвенции «Толкования в отношении определенных положений», прямо не освещается и употребляется в общем «контексте проекта статей в целом».
Само понятие «юрисдикционный иммунитет» сложилось в международном праве сначала в качестве обычной нормы, а затем стало определяться судебной практикой, законодательством и международными договорами и означает право государства не подчиняться национальному процессуальному законодательству других государств5.
Юрисдикционный иммунитет государства, согласно нормам Конвенции, имеет три составляющие:
-
- иммунитет государства в отношении себя и своей собственности от юрисдикции судов другого государства (судебный иммунитет — ст. 5 Конвенции);
-
- иммунитет государства в отношении принудительных мер до вынесения судебного решения, таких как обращение взыскания или арест, в отношении собственности государства в связи с разбирательством в суде другого государства (иммунитет от принудительного обеспечения иска — ст. 18 Конвенции);
-
- иммунитет государства от принимаемых после вынесения судебного решения принудительных мер, таких как обращение взыскания, арест и исполнение решения, в отношении собственности государства в связи с разбирательством в суде другого государства (иммунитет от принудительного исполнения решения — ст. 19 Конвенции)6.
В связи с вышесказанным, анализируя смысловую нагрузку Конвенции, необходимо сделать несколько оговорок.
-
1. Иммунитет государства основывается на том, что оно обладает суверенитетом, что все государства равны. Это начало международного права выражено в общем принципе международного права: “Par in parem non nabet imperium” («Равный над равным права не имеет»). Следовательно, установление иммунитета государства всегда находится исключительно в его же юрисдикции.
-
2. Признание юрисдикционного иммунитета исходит из принципа добровольности его установления государством, к которому он относится, и такого же принципа добровольности от его отказа.
СТАТЬИ
-
3. Признание иммунитета ни в коей мере не должно состоять в освобождении государства от выполнения принятых им на себя обязательств или в освобождении государства от ответственности за неисполнение обязательств7.
Все вышесказанное, однако, необходимо отграничивать от иммунитетов, данных государствам в рамках международного публичного права8. Так, в соответствии со ст. 3 Конвенции в понятие юрисдикционного иммунитета не входят:
-
- иммунитеты, предоставляемые государству в отношении его дипломатических представительств, консульских учреждений, специальных миссий, представительств при международных организациях или делегаций в органах международных организаций или на международных конференциях и относящихся к ним лиц;
-
- иммунитеты, предоставляемые главам государств;
-
- иммунитеты в отношении воздушных судов и космических объектов, принадлежащих государству и эксплуатируемых им9.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства в отношении какого-либо вопроса или дела, если оно явно выразило согласие на осуществление этим судом юрисдикции в отношении такого вопроса или дела, в силу:
-
- международного соглашения (договора);
-
- письменного контракта;
-
- заявления в суде или письменного сообщения в рамках конкретного разбирательства10.
В этой статье ярко проявляется принцип добровольности отказа от юрисдикционного иммунитета.
В юридической доктрине обычно рассматриваются две концепции иммунитета государства:
-
- абсолютного иммунитета;
-
- ограниченного иммунитета.
Концепция абсолютного иммунитета исходит из его применения в любых правовых ситуациях, независимо от характера сложившихся между субъектами правоотношений.
Согласно концепции функционального (ограниченного) иммунитета, иностранное государство, его органы, а также их собственность пользуются иммунитетом только тогда, когда государство осуществляет суверенные функции, т. е. действия jureimperii. Если же государство совершает действия коммерческого характера (заключение внешнеторговых сделок, концессионных и иных соглашений), т. е. действия juregestionis, то оно не пользуется иммунитетом. Иными словами, представители концепции ограниченного иммунитета считают, что, когда государство ставит себя в положение частного лица, к нему могут предъявляться иски, а на его собственность распространяются принудительные меры11.
Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности построена именно на концепции ограниченного иммунитета. Так, данная Конвенция предписывает ряд ограничительных случаев, когда государство — участник Конвенции в случае возникновения спора и отнесения его к компетенции иностранных судебных органов не может ссылаться на свой юрисдикционный иммунитет.
-
• Если государство заключает коммерческую сделку с иностранным физическим или юридическим лицом (ст. 10). При этом под коммерческой сделкой согласно ст. 2 Конвенции следует считать любой контракт или сделку коммерческого, промышленного, торгового или профессионального характера, за исключением трудового договора.
-
• Если государство и иностранное физическое лицо заключают трудовой договор и спор возникает относительно работы, которая была или должна быть выполнена полностью или частично на территории этого другого государства (ст. 11).
-
• Дела, возникающие из деликтных обязательств (обязательств вследствие причинения вреда здоровью или имуществу), если действия или бездействия имели место полностью или частично на территории этого другого государства (ст. 12).
-
• Дела, предметом которых является защита вещных прав на недвижимое имущество и на любое имущество, если вещные права на него возникают в силу наследования (ст. 13).
СТАТЬИ
-
• Дела, предметом которых является установление права на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 14)12.
Конвенция предусматривает оговорку к указанным правилам: «Если государства напрямую не договорились об ином».
Если рассуждать о том, какой концепции придерживается Российская Федерация, то однозначный вывод, на первый взгляд, сделать сложно, т. к. в национальном законодательстве отсутствует ФЗ «О юрисдикционном иммунитете РФ» или иной нормативно-правовой акт, так или иначе отражающий позицию РФ в данном вопросе в отношении себя. В п. 1 ст. 7 Закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства» указано, что иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с участием иностранного государства в гражданско-правовых сделках с физическими лицами, или юридическими лицами, или иными образованиями, не имеющими статуса юридического лица, иного государства, если такие споры в соответствии с применимыми нормами права подлежат юрисдикции суда Российской Федерации и указанные сделки не связаны с осуществлением иностранным государством суверенных властных полномочий. Анализируя данное положение, можно сделать вывод о закреплении в законодательстве РФ функционального иммунитета. Также следует учитывать нормы АПК РФ и ГПК РФ в силу прямого указания закона об этом (ст. 256.3 АПК РФ13 и 417.3 ГПК РФ14).
До принятия Закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства» в 2015 г. с учетом положений доктрины российского права можно было сделать практически однозначный вывод о том, что РФ придерживается концепции абсолютного иммунитета. Однако с момента вступления в силу указанного Закона стало очевидным движение РФ в сторону концепции ограниченного иммунитета.
Ст. 7 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства» отражает суть ст. 10 Конвенции, т. е. основного постулата ограниченного иммунитета — государство не может ссылаться на юрисдикционный иммунитет, если оно вступает в частно-правовые отношения с физическими или юридическими лицами (в данном случае основу частноправовых трансграничных отношений составляют коммерческие сделки). Однако согласно п. 4 ст. 7 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства» при решении вопроса о том, связана ли сделка, совершенная иностранным государством, с осуществлением его суверенных властных полномочий, суд Российской Федерации принимает во внимание характер и цель такой сделки. Исходя из буквального толкования данной нормы, можно сделать вывод, что устанавливать характер правоотношений (частноправовой или публично-правовой) будет именно суд Российской Федерации15. Таким образом, ключевую роль при разрешении данного вопроса будет играть доказательная база, предоставленная сторонами и обосновывающая в полной мере характер заключенной сделки. Однако с учетом внешнеполитических установок, сложившихся в современном мире, несложно будет предположить, что суд РФ будет толковать представленные сторонами доказательства, отражающие суть сделки, не в пользу интересов правосудия, а в пользу интересов Российской Федерации в зависимости от предмета спора и процессуально-правового статуса сторон. Можно сделать вывод о том, что именно положения данного п. 4 ст. 7 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства» в том числе выступают сдерживающим фактором для роста инвестиционной привлекательности Российской Федерации.
Помимо вышеуказанных отличий, в Законе также присутствует так называемый принцип взаимности (ст. 4 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства»), закрепляющий положение, согласно которому Российская Федерация может применять ограничения в отношении юрисдикционного иммунитета иностранных государств, если аналогичные ограничения имеются в таких государствах в отношении РФ. Наличие данного положения также свидетельствует о неопределенности концепции юрисдикционного иммунитета РФ, т. к. определяющие положения данного закона, например п. 1 ст. 5 или п. 1 ст. 7 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства», не будут применяться в определенных случаях, что опять же ставит вопрос о наличии противоречия при их совместном практическом приме-нении16. Также, исходя из положений рассмотренного ранее п. 4 ст. 7 Закона «Об юрисдикционных иммунитетах иностранного государства», можно сделать вывод о том, что если на практике суд иностранного государства вынесет решение о признании характера сделки как частноправовой и, соответственно, об освобождении РФ от права ссылаться на юрисдикционный иммунитет, то Российская Федерация введет аналогичные меры на ее территории в отношении этого иностранного государства, что также осложняет практику правоприменения и влечет в первую очередь создание условий, при которых возникает нежелание иностранных государств заключать сделки коммерческой направленности с российскими физическими и юридическими лицами17.
СТАТЬИ
Практическое применение всего вышесказанного также может породить проблемы в связи с принятием поправок к Конституции РФ. Согласно законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», вносятся следующие поправки в ст. 79 Конституции РФ: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации18. Таким образом, решения межгосударственных органов могут быть истолкованы как противоречащие Конституции РФ и на территории РФ не исполняться, что еще больше затруднит положение РФ на международной арене. Более того, аналогичные последствия могут быть применимы и для споров из внешнеэкономических сделок, что может повлечь необратимые последствия для внешнеэкономической и инвестиционной деятельности РФ19.
Помимо этого, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» в п. 8 содержится положение о том, что Арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором является иностранное государство, выступающее в качестве суверена, или межгосударственная организация, имеющая иммунитеты согласно международному договору, только при наличии явно выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного иммунитета иностранного государства или международной организации.
Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации должно быть подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства или внутренними правилами международной организации на отказ от судебного иммунитета20.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация не отказалась от концепции абсолютного иммунитета, а все вышеуказанные изменения носят весьма противоречивый характер. Помимо этого, стоит отметить, что достаточно сложно определить, каким образом государство, вступая в частноправовые отношения, может преследовать в сделке непубличные интересы. И как в суде будет доказываться этот частный интерес.
Таким образом, наиболее оптимальным решением в сложившейся ситуации может явиться принятие нормативного акта, в котором четко бы указывался подход к юрисдикционному иммунитету именно РФ. Это помогло бы преодолеть существующие противоречия в законодательстве и судебной практике и привело бы к однозначному нормативному, а не судебному толкованию положений, касающихся юрисдикционного иммунитета РФ.
Список литературы Юрисдикционный иммунитет Российской Федерации как субъекта международного частного права
- Бариева А. А. Проблемы развития законодательства Российской Федерации в сфере международного гражданского процессуального права // Инновационная наука. 2017. № 2. С. 34-37.
- Борисов В. Н., Власова Н. В., Доронина Н. Г./ Международное частное право: учебник / отв. ред. Н. И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 1054 с.
- Еникеев О. А. Спорные положения главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. № 4 (46). 2016. С. 109-112.
- Хлестова И. О. Новый Закон "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства" // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 2. С. 128-135.
- Souresh A. Jurisdictional Immunities of the State: Why the ICJ Got It Wrong // European Journal of Legal Studies. 2017. Vol. 9. Issue 2. Pp. 15-36.