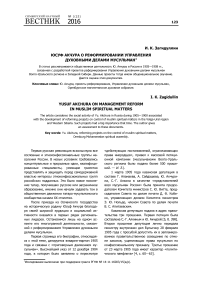Юсуф Акчура о реформировании управления духовными делами мусульман
Автор: Загидуллин Ильдус Котдусович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается общественная деятельность Ю. Акчуры в России в 1905-1908 гг., связанная с разработкой проектов реформирования Управления духовными делами мусульман Волго-Уральского региона и Западной Сибири. Данные проекты тогда имели общенациональное звучание. Дается оценка этим документам.
Ю. акчура, проекты реформирования, управление духовными делами мусульман, оренбургское магометанское духовное собрание
Короткий адрес: https://sciup.org/14114295
IDR: 14114295
Текст научной статьи Юсуф Акчура о реформировании управления духовными делами мусульман
Первая русская революция всколыхнула все сословные и этноконфессиональные группы населения России. В новых условиях требовались концептуальные и прорывные идеи, квалифицированные специалисты, умеющие грамотно представлять и защищать перед самодержавной властью интересы этноконфессиональных групп российских подданных. Это было новое поколение татар, получивших русское или заграничное образование, именно они начали задавать тон в общественном движении татаро-мусульманского сообщества начала ХХ столетия.
После приезда из Османского государства на историческую родину Юсуф Акчура благодаря своей широкой эрудиции и социальной активности оказался в первых рядах региональных лидеров. Остановимся лишь на одном аспекте его многогранной деятельности, связанной с реформированием Управления духовными делами мусульман.
Первая страница его биографии, относящаяся к этой теме, датируется январем-мартом 1905 года и связана с «приговорным движением мусульман». Высочайший указ от 12 декабря 1904 года, в котором было заявлено о пересмотре
«действующих постановлений, ограничивающих права инородцев», привел к массовой петиционной кампании (мусульманами Волго-Уральского региона было подано более 500 прошений. — И. З. ).
-
1 марта 1905 года казанская депутация в составе Г. Апанаева, А. Сайдашева, Ю. Акчурина, С.-Г. Алкина в качестве «представителей всех мусульман России» была принята председателем Комитета министров С. Ю. Витте, председателем Совета по делам печати Д. Ф. Кобе-ко, управляющим делами Комитета министров Э. Ю. Нольде, членом Совета по делам печати В. С. Апитаевским.
Казанская депутация подала в адрес правительства три прошения. Первая петиция была составлена С.-Г. Алкиным и Ю. Акчурой [5, б. 398]. Второе прошение депутация лично передала министру внутренних дел Булыгину 28 февраля 1905 года с просьбой допустить их в запланированное правительственное совещание по отмене законов, ущемляющих права мусульман по конфессиональному признаку. Третье прошение от 23 марта 1905 года имеет характер «политического памфлета»[4, с. 60—63].
В первом коллективном прошении от 28 января 1905 года привлекает внимание грамотное в юридическом плане составление документа. Условно он состоит из трех частей и включает 13 пунктов. В каждом пункте сначала дается преамбула — обоснование, затем высказывается само предложение по совершенствованию действующего законодательства.
Первая часть, состоящая из 9 пунктов, посвящена вопросам повышения статуса исламских религиозных институтов и во многом перекликается с просьбами мусульман, изложенными в их ходатайствах в адрес правительства в конце 1880-х — первой половине 1890-х гг. Скажем, наряду с требованием об избрании муфтия и заседателей Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС) мусульманами, ставится условие, чтобы они непременно имели духовное звание (п. 1). Было также заявлено, что все дела, касающиеся брачных, семейных и наследственных вопросов единоверцев, должны находиться в исключительном ведении ОМДС, т. е. светские власти и суды лишаются возможности их рассмотрения (п. 2). В качестве важных направлений деятельности ОМДС названы: концентрация в его руках вопросов строительства мечетей, открытия мектебе и медресе (за исключением технических аспектов. — И. З. ), назначение учителей, надзор и управление ими (п. 3). Речь шла об отмене закона от 24 ноября 1874 года, согласно которому все действующие в мусульманских обществах школы в Казанском и Оренбургском учебном округах, а также в Нижегородской (Московский учебный округ) и Пензенской (Харьковский учебный округ) губерниях были подчинены Министерству народного просвещения, и возвращении этой компетенции религиозному управлению [6, с. 596].
В петиции ставились вопросы о предоставлении мусульманским духовным лицам равных прав с православными священниками (изъятие из подсудности сословным, волостным судам, освобождение от воинской повинности, присвоение им и их детям званий почетных граждан) (п. 8); о легализации вакуфов и подчинении их контролю ОМДС (п. 4). Депутация также ходатайствовала об отмене русского образовательного ценза, введенного в 1891 году в округе ОМДС для желающих занять мусульманские духовные должности (п. 9).
В петиции обращалось внимание сановников на необходимость уравнения татар с другими подданными в сфере издания религиозной литературы и предоставления возможности публичного возражения в случае появления в российской печати обидной и несправедливой критики, иронических высказываний, оскорбляющих религиозные чувства мусульман. В частности, с целью недопущения исправления цензором канонических текстов депутация просила: «…дабы было узаконено предоставить мусульманам такую же свободу слова и печати, какая дарована законом общей прессе, и с тем непременным положением, чтобы все те части возражений мусульман, в прессе выраженных, кои основаны на ссылках на изречения из священной книги нашей — Коран[а] — никоим образом не подвергались светской цензурой, а подлежали бы духовно-мусульманскому просвещенному рассмотрению того состава Оренбургского магометанского духовного собрания» (п. 5).
До появления указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года, в котором впервые было публично объявлено о предоставлении каждому российскому подданному свободы вероисповедания, в Российской империи запрещался переход из государственной религии в другую конфессию. Между тем в Волго-Уральском регионе проживало несколько десятков тысяч крещеных татар, которые дистанцировались от церкви и тайно или открыто исповедовали религию свих предков — ислам. С целью защиты их религиозных прав депутация просила о разрешении им «открыто и безбоязненно исповедовать ислам с правом регистрации их в среду мусульманского общества» (п. 6).
Депутация поставила на повестку изменение еще одного закона, связанного с непременным крещением и христианским воспитанием подкинутых младенцев, тем самым признавая факты оставления мусульманками незаконнорожденных детей. Было заявлено, что в случае обнаружения подкидышей близко к дому, или в населенном пункте, или в местности, где проживают мусульмане, а также «если подкинутое дитя представляет все признаки расового мусульманского происхождения, регистрировать в мусульманскую веру с отдачею их на воспитание или тем, коим они подкинуты и оные пожелают принять их в свою семью, или при отсутствии сего, на попечение мусульманского общества данного района по правилам особо на сей предмет выработанным» (п. 8) [4, с. 54—60].
Во всех прошениях, адресованных премьер-министру С. Ю. Витте, имелась просьба о скорейшем системном пересмотре законов, связанных с управлением духовными делами мусульман. Игнорирование самодержавием этой проблемы воспринималось как ущемление имперской властью религиозных прав единоверцев.
Поэтому председатель Комитета министров предложил муфтию М. Султанову на специальном совещании духовенства выработать необходимые рекомендации в этой сфере. Совещание улемов состоялось 10—15 апреля 1905 года. Помимо приглашенных духовных лиц, по собственной инициативе в Уфу съехались купцы, му-даррисы, студенты университетов, шакирды.
Новая страница биографии Ю. Акчуры связана с участием в разработке нового проекта по управлению духовными делами мусульман в Уфе. В первый день совещания Ю. Акчура огласил свой проект от имени группы в составе юриста А. Ахтямова, который в 1895—1903 гг. состоял секретарем ОМДС, юриста Саидгирея Алкина, симбирского промышленника Ибрагима Акчурина, оренбургского 1-й гильдии купца Махмуда Хусаинова, орского золотопромышленника Закира Рамиева и саратовского фабриканта Мухаммад-Юсуфа Дибирдиева [2, б. 76].
В свой проект, состоящий из 46 статей, Ю. Акчура включил некоторые статьи из действующего законодательства. Другие его предложения были призваны реформировать систему управления исламскими институтами и расширить их правовое положение.
В документе заявлялось о разделении духовенства округа ОМДС на две иерархические группы, наряду с муфтием и ахуном, мударрис и мухтасиб также объявлялись высшими духовными лицами. Подчеркивалось, что звания ахуна, мухтасиба и мударриса будут присваиваться самым достойным религиозным деятелям, а «не кому попало, как сегодня» (ст. 11). К низшему духовенству по-прежнему относились имам-хатиб, имам-мугаллим и муадзин (ст. 5).
Муфтий объявлялся председателем ОМДС и главой всех мусульман (ст. 6), который избирался мусульманским сообществом и утверждался императором (ст. 7). При решении целого ряда вопросов в Духовном собрании вводилось единоначалие муфтия. В частности, он единолично проводил ревизию принятых решений в отделах ОМДС вплоть до их пересмотра (ст. 9).
Ю. Акчура весьма абстрактно прописал порядок выборов председателя ОМДС путем тайного голосования, который не учитывал численность мусульман в волостях, уездах и губерниях (ст. 8). Видимо, ему не хватило времени. Главная идея в его проекте заключается в проведении двухступенчатых выборов: избранные в приходах в числе от 1 до 3 делегаты, собравшись (видимо, на уровне волости или уезда. — И. З.), выбирали своего представителя, эти представители (мохтарлар) избирали трех кан- дидатов, одного из которых император утверждал муфтием.
В проекте впервые статус оренбургского муфтия был инкорпорирован в табель о рангах империи — в российскую чиновничью иерархию — ему отводился ранг не ниже 3-й степени, т. е. не ниже тайного советника (ст. 10). Был также поставлен на повестку вопрос об инкорпорации в российскую чиновничью иерархию членов Духовного собрания (Махкама-и руха-ния), которые после определения их статуса, также должны были пользоваться всеми правами российского чиновника (ст. 11) и получать годовое жалованье не ниже 2200 руб., а также премии (ст. 15).
Численность казыев — членов Духовного собрания согласно проекту увеличивалась в два раза (по два ахуна, мухтасиба и мударриса) с весьма расплывчивой регламентацией направлений их деятельности, сосредоточенных в трех отделах. Один из них по опредению муфтия назначался первым казыем (бөек казый) и становился заместителем председателя ОМДС (ст. 14).
Для консультаций по правовым вопросам в штатном расписании Духовного собрания предусматривалась должность юриста, которого назначал муфтий (ст. 16).
В правовом отделе 2 ахуна издавали, после одобрения документов юристом, предписания по религиозно-правовым вопросам в махаллях; в отделе управления заседали 2 мухтасиба и отвечали за имущественные вопросы в приходах, в отделе образования 2 мударриса курировали учебно-образовательную сферу в махаллях (ст. 14, 17).
По вопросам, связанным с проведением испытаний для кандидатов на духовные должности, контроля и наказания духовенства, проведения расследований и подготовки постановлений Духовного собрания все казыи работали под непосредственным руководством муфтия (ст. 18). При возникновении разногласий во время обсуждения вопросов и при равенстве голосов по итогам голования голос муфтия имел преимущество (ст. 19).
Географически 4 казыя должны были представлять избирателей европейской части России, 2 человека — азиатской части империи. Избирались они из числа известных религиозных деятелей и по рекомендации авторитетных духовных лиц. Из числа предложенных 12 кандидатов муфтий назначал шестерых сроком на 4 года казыями, шестерых — кандидатами в ка-зыи. Через каждые два года по три казыя выбывали и заменялись кандидатами (ст. 15).
Мектебе и медресе, до этого времени находившиеся в ведении Министерства народного просвещения, должны были быть переподчинены Духовному собранию, а вакуфы объявлялись легитимными и также подчинялись контролю религиозного учреждения (ст. 21).
Главной идеей проекта Ю. Акчуры являлось введение нового института при Махкама-и руха-ния «Голяма шурасы» (Совет ученых) (ст. 22), который созывался муфтием не менее 1 раз в год (ст. 23). По нашему мнению, в нем была заложена идея иджмы — выработка единодушного мнения авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, которые принимали решение по киясу — суждению по аналогии. Состав «Голяма шура-сы», численность членов которого не превышала более четырех раз численности казыев (т. е. не более 24 человек), утверждался Духовным собранием, однако при обсуждении спорных и сложных вопросов по решению Духовного собрания единоразово приглашались компетентные в этой области знаний лица. Главная обязанность членов нового института заключалась в решении на основе шариата важных проблем, вызванных временем, местом проживания и самой жизнью (вакыт, торган җир, тормыш күрсәткән мөһим мәсьәләләрне иҗтимагый шәригатькә нигезләнеп хәл итәргә кирәк булыр).
Решения «Голяма шурасы» доводились до населения и должны были учитываться общественным мнением мусульманского сообщества. Одни и те же решения, повторно принятые через год на трех советах, становились для Махкама-и рухания руководством к исполнению (ст. 25).
В случаях, если подготовленные постановления Духовного собрания расходились с действующим российским законодательством, совет улемов брал на себя миссию экспертного совета, и лишь после получения заключения «Голя-ма шурасы» по возникшему сложному вопросу ОМДС принимало окончательное решение (ст. 26). С помощью совета улемов ОМДС призвано было реформировать школы и медресе и довести их до уровня русских школ и академий, чтобы они соответствовали религиозным и жизненным потребностям народа (ст. 40).
«Голяма шурасы» также призван был составить обновленные, соответствующие времени, месту службы кандидатов на духовные должности программы испытаний (ст. 41).
Недовольные решением Махкама-и рухания мусульмане в течение определенного времени подавали жалобу и требовали нового разбирательства. Если были жалобы в другие судебные органы, то эти судебные органы обращались в
ОМДС и выносили решение согласно основным законам государства (ст. 27) [7, б. 42—49].
Источниками существования Духовного собрания определялись поступения из казны, от брачного налога мусульман и получение определенной оплаты за выдачу справок (последняя являлась новым источником, не предусмотренным действующим законодательством).
В целом как нормативный документ проект Ю. Акчуры имел много изъянов. Очевидно, за короткий срок невозможно было составить нормативный акт, учитывающий все аспекты деятельности ОМДС и регламентирующий права и обязанности религиозных институтов. Кажется, Ю. Акчура сосредоточил внимание главным образом на рекомендациях по реформированию религиозного учреждения. Примечательно, что многие его предложения были повторены или автономно зафиксированы в других проектах, адресованных совещанию. Поэтому трудно сказать, чьи конкретно предложения были приняты во внимание совещанием. Точно можно указать статьи, которые не вошли в окончательный вариант проекта, разработанного совещанием улемов: помимо института «Голямалар шура-сы», это и деление духовенства на две группы, и инкорпорация муфтия и казыев в российскую чиновничью иерархию [3, с. 375—387]. Однако проект положения «Об управлении духовных дел магометан-суннитов округа Оренбургского магометанского духовного собрания», принятый на уфимском совещании в апреле 1905 года, не получил одобрения правительства.
В августовском номере газеты «Вакыт» за 1908 год [1] было напечатано собщение о том, что к открытию после летних каникул сессии III Государственной Думы Ю. Акчура подготовил Положение об ОМДС на 66 страницах. Оно было издано на русском языке в Оренбурге на средства комиссии духовного собрания и реформы мектебе.
Новый проект Ю. Акчуры состоял из двух разделов. Первый раздел являлся объяснительной запиской. Во втором, основном разделе, был представлен проект устава ОМДС, который включал следующие разделы: религиозные права мусульман округа, права и обязанности духовенства, вопросы компетенции религиозного управления, права и обязанности окружных меджлисов, круг обязанностей и компетенция приходского духовенства. Далее освещались: статус муфтия, членов Духовного собрания, членов окружных меджлисов, мударрисов. В проекте был прописан распорядок работы структурных подразделений Духовного собра- ния, порядок взаимодействия с находящимися под ведением религиозного управления попечи-тельств при мечетях вакуфами, мектебе и медресе, мечетями и другими учреждениями.
Как видно, проект был составлен на основании положения «Об управлении Закавказского Мусульманского духовенства Суннитского учения» от 5 апреля 1872 года, который предоставил самые широкие права мусульманам и исламским институтам этой российской окраины. В отличие от проекта положения «Об управлении духовных дел магометан-суннитов округа Оренбургского магометанского духовного собрания», принятого на совещании улемов в апреле 1905 года, в проекте Ю. Акчуры институт окружных ахунов заменялся окружными меджисами, коллегиальными учреждениями среднего звена.
К сожалению, проект Ю. Акчуры пока найти не удалось.
Обращение Ю. Акчуры в 1905 и 1908 гг. к вопросу реформирования Управления духовными делами мусульман Волго-Уральского региона и Западной Сибири было обусловено тем, что данный вопрос имел в этот период общенацио- нальное звучание. Составление в 1908 году по просьбе татарских депутатов Государственной думы проекта Управления духовными делами мусульман округа ОМДС свидетельствует о признании Ю. Акчуры интеллектульным лидером нации, компетентным в этих сложных вопросах.
-
1. Вакыт. 1908. № 362. 27 авг.
-
2. Дәүләт Н. Руссия төркиләренең милли көрәш та-рихы (1905—1907) / төрекчәдән Р. Батулла
тәрҗ. Казан : Милли китап, 1998. 399 б.
-
3. Загидуллин И. К. Татарское национальное движение (1860—1905 гг.) : моногр. Казань : Татар. кн. изд-во, 2014. 423 с.
-
4. Загидуллин И. К. Петиции мусульман Казани 1905 г. // Гасырлар авазы (Эхо веков). 2015. № 1—2. С. 46—63.
-
5. Исхаков М. Г. Тәрҗемәи хәлем // Исхаков М. Г. Әсәрләр. Унбиш тома. 14 т.: Хатлар һәм автобиографик язмалар (1902—1954). Казан : Татар. кит нәшр., 2013. Б. 363—405.
-
6. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб. : Гос. типогр. 1902. 786 с.
-
7. Җарулла Муса. Исляхат әсаслары. Пг. : М.-А. Максутов типографиясе, 1917. 288 б.
* * *
Список литературы Юсуф Акчура о реформировании управления духовными делами мусульман
- Вакыт. 1908. № 362. 27 авг.
- Дәүләт Н. Руссия төркиләренең милли көрәш тарихы (1905-1907)/төрекчәдән Р. Батулла тәрҗ. Казан: Милли китап, 1998. 399 б.
- Загидуллин И. К. Татарское национальное движение (1860-1905 гг.): моногр. Казань: Татар, кн. изд-во, 2014. 423 с.
- Загидуллин И. К. Петиции мусульман Казани 1905 г.//Гасырлар авазы (Эхо веков). 2015. № 1-2. С. 46-63.
- Исхаков М. Г. Тәрҗемәи хәлем 11 Исхаков М. Г. Әсәрләр. Унбиш тома. 14 т.: Хатлар һәм автобиографик язмалар (1902-1954). Казан: Татар, кит нәшр., 2013. Б. 363-405.
- Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902. СПб.: Гос. типогр. 1902. 786 с.
- Җарулла Муса. Исляхат әсаслары. Пг.: М.-А. Максутов типографиясе, 1917. 288 б.