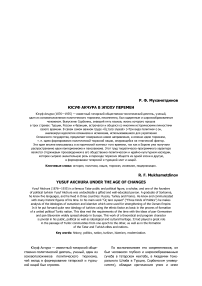Юсуф Акчура в эпоху перемен
Автор: Мухаметдинов Рафаэль Фардиевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
Юсуф Акчура (1876-1935) - известный татарский общественно-политический деятель, ученый, один из основоположников политического тюркизма, несомненно, был одаренным и широкообразованным человеком. Выпускник Сорбонны, знавший пять языков, жизнь которого прошла в трех странах: Турции, России и Франции, встречался и общался со многими историческими личностями своего времени. В своем самом важном труде «Üç tarzi siyaset» («Три вида политики») он, анализируя идеологии османизма и исламизма, использовавшиеся для укрепления Османского государства, предлагает совершенно новое направление, а именно идею тюркизма, т. е. идею формирования политической тюркской нации, опирающейся на этнический фактор. Эта идея вполне вписывалась в исторический контекст того времени, так как в Европе уже получили распространение идеи пангерманизма и панславизма. Этот труд теоретическо-программного характера является стержневым произведением в его общественно-политическом и идейно-культурном наследии, которое сыграло значительную роль в переходе тюркских обществ из одной эпохи в другую, в формировании татарской и турецкой элит и наций.
История, политика, нация, тюркизм, исламизм, модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14114294
IDR: 14114294
Текст научной статьи Юсуф Акчура в эпоху перемен
Юсуф Акчура — известный татарский общественно-политический деятель, ученый, один из основоположников политического тюркизма, чей вклад в формирование татарской и турецкой наций был огромен.
По воспоминаниям его современников, он был человеком глубоко и широкообразованным (учеба в татарском мектебе, в Академии Генерального Штаба в Турции, Сорбонском университете), обладал критическим умом и имел склонность к дискуссиям. В сферу его интересов входили история, политология, политика, публицистика (некоторые образцы которой были на уровне художественных произведений), экономика, социология. Он чувствовал в ходе истории определенные закономерности и поэтому обладал некоторым даром предвидения — так, за несколько лет вперед предсказал начало Второй мировой войны.
Ю. Акчура знал пять языков: татарский, турецкий, французский, русский, немецкий. Из 59 лет своей жизни 11 лет он прожил в России (регион проживания татар), 5 лет — во Франции и остальные 43 года — в Турции.
За свою жизнь ему довелось встретиться со многими выдающимися историческими личностями. Еще будучи подростком и юношей, во время своих посещений России он встречался с такими личностями, как Каюм Насыри, Шиха-бетдин Марджани, Галимджан Баруди, генерал Шамиль — сын вождя горцев шейха Шамиля, Исмаил Гаспринский. В 1916 году в Цюрихе (Швейцария) Ю. Акчура в течение четырех часов беседовал с В. И. Лениным. Живя в Турции, он долгие годы работал университетским профессором, был депутатом турецкого парламента и советником первого президента Турции Кемаля Ататюрка по вопросам политики и культуры.
Ю. Акчуре пришлось жить на рубеже двух столетий, XIX и XX веков, когда в двух полуфеодальных государствах — Османской и Российской империях, где в основном и проживали тюркские народы, происходил медленный поворот от феодального общества, для которого были характерны принципы династии и религии, к буржуазному, с его рыночными отношениями, формированием нации и сопутствующей этому буржуазной модернизацией.
Если в начале этого поворота турки называли себя османцами или стамбульцами, а татары — мусульманами или казанцами, то в конце этого поворота — турками и татарами.
Дело в том, что в начале ХХ века в Европе, особенно во Франции того времени, шло бурное осмысление таких понятий, как империализм, социализм, коммунизм, анархизм. Развитие национальной идеи также поднялось на новую ступень. Наряду с тем, что на карте Европы одно за другим появились малые государства, зрела также идея создания больших национальных государств, основанных на единстве этнически родственных народов. Эту идею выдвинул французский философ и дипломат, один из основателей идеологии расизма, Гобино Жозеф
(1816—1882). Немцы пропагандировали пангерманизм, русские — панславизм [1, с. 4].
Что должно было делать Османское государство для своего сохранения на фоне этих «панславизмов» и «пангерманизмов»?
Ответом на этот вопрос послужила работа Ю. Акчуры «Üç tarzı siyaset» («Три вида политики»). Если говорить о его общественно-политическом, идейном и культурном наследии, которое сыграло значительную роль в переходе тюркских обществ из одной эпохи в другую, в формировании татарской и турецкой элит и наций, то из всей его обширной деятельности, по нашему мнению, следует выделить именно эту работу.
«Üç tarzı siyaset» Ю. Акчура написал в 1904 году, живя в родовой деревне Зиябашы под Симбирском. Статья в том же году выходит на страницах каирской газеты «Тюрок». Работа носила теоретический и программный характер и получила большой резонанс в тюркском мире.
Если после газетных публикаций эта статья стала известна в основном узкому кругу младотурок, живущих в Каире, то после ее издания в виде брошюры в 1907 году в Каире она получила большой резонанс, и о ней заговорили повсюду. В 1907 году она уже с жадностью читалась российскими мусульманами. Интересно, что один татарский журналист, дававший оценку работе Ю. Акчуры в журнале «Шура», написал, что статья «Три вида политики» стоит 80 томов других книг [2].
Затем эта работа издавалась в Стамбуле (1912), два раза в Анкаре (1976, 1987).
В переводе Р. Ф. Мухаметдинова на русский и в переводе А. Р. Рахимовой на татарский языки она вышла также в журнале «Татарстан» в номерах 3—6 (март-июнь) за 1994 год (г. Казань).
Статья состоит из трех частей. Краткое введение начинается следующими словами: «Я считаю, что в османских провинциях, с тех пор как там, благодаря заимствованию плодов западной цивилизации, пробудились желания встать на путь мощи и прогресса, выявились и проводились три определенных направления в политике: 1-е направление — ассимилируя и объединяя нации, подчиненные османскому правительству, создать некую османскую нацию; 2-е направление — используя то, что правители Османского государства обладают правами халифа, политически объединить всех мусульман под правлением османского правительства (то, что европейцы называют "панисламизмом"); 3-е направление — формирование политической тюркской нации, опирающейся на этнический фактор» [1, с. 19].
После этого тезисного изложения содержания всей статьи автор в 1-й ее части подробно характеризует каждое из 3-х направлений в политике. О тюркском направлении он пишет следующее: «Мысль о создании тюркской политической нации, основанной на этническом принципе, является совершенно новой. Я не думаю, чтобы подобная идея существовала как в истории Османского государства, так и в истории других тюркских государств... Правда и то, что в Стамбуле недавно сформировалось некое общество, больше научного, нежели политического характера, желающее создать тюркскую нацию... Такие уважаемые авторы тюркских стихов, как Шамсетдин Сами, Наджип Асым (Мехмед Эмин), Велед Челеби и Хасан Тахсин, являлись видными членами этого общества. А газета "Икдам" была печатным органом, который в определенной мере способствовал распространению их идей... Я предполагаю, что в России, где проживает большинство тюрок, идея их объединения существует в очень размытой форме. Совсем недавно возникшая "Волжская литература" является больше тюркской, чем мусульманской. Если бы не было гнета извне, эта идея легко развивалась бы в более благоприятствующей среде, чем османские провинции, а именно: в Туркестане и бассейнах рек Яика (Урала) и Волги, наиболее густо заселенных тюрками.
Эта идея, видимо, есть у тюрок Кавказа. Зная о влиянии общественной мысли Кавказа на Азербайджан, я в то же время не знаю, в какой степени тюрки Северного Ирана являются сторонниками тюркского единства.
Что бы там ни было, идея создания некой политической нации, опирающейся на этнический принцип, пока еще очень нова и очень слабо распространена» [1, с. 23—24].
Переходя к рассмотрению политики «тюркского единства», автор говорит о пользе, назначении и целях этой политики: «Но основная большая польза политики тюркского единства заключается в том, чтобы она способствовала объединению тюрок, территория проживания которых охватывала большую часть Азии и Восточную Европу и у которых были одинаковые языки, одно происхождение, одни и те же обычаи, а у большинства из них — и общая религия. Таким образом, эта политика служила бы процессу формирования большой политической нации, которая была бы способна сохранить себя среди других великих наций. Так как в этом обширном объединении турецкое общество является самым сильным, прогрессивным и циви- лизованным, очень важную роль в этом объединении играло бы Османское государство. В далеком будущем, спрогнозировать которое нам помогают недавние события, между двумя мирами белой и желтой рас, вероятно, сформируется некий тюркский мир, и в этом срединном мире Османское государство возьмет, видимо, на себя ту роль, которую сейчас в мире желтой расы желает выполнить Япония» [1, с. 33—34].
Автор отмечает также трудности и препятствия, особенно внешнего характера, которые могут ожидать политику «тюркского единства». Он пишет: «Что же касается внешних препятствий, то, в сравнении с подобными же препятствиями в политике исламизма, их немного меньше, потому что из христианских государств только у одного, а именно у России, есть мусульманские подданные тюркского происхождения. Поэтому, исходя из необходимости защиты своих интересов, только это государство будет стараться препятствовать объединению тюрок. Что касается других христианских государств, то, возможно, некоторые из них даже поддержат политику "тюркского единства" из-за того, что она наносит ущерб интересам России» [1, с. 35].
Что касается роли религии в формировании тюркской нации, то Ю. Акчура считал, что ислам должен видоизмениться с тем, чтобы допустить в своем лоне формирование наций. «Что касается этого видоизменения, то оно почти неизбежно: главная тенденция развития, которая просматривается в современной истории — это тенденция развития рас (этносов. — Р. М. ). Религии как таковые постепенно теряют свое значение и силу. Религии все более и более переносят свою деятельность из общественной сферы в личную сферу жизни человека... Вследствие этого религии могут сохранить свое политическое и общественное значение, лишь объединяясь с этносами, помогая и даже служа им (в России — православие, в Германии — протестантизм, в Англии — англиканская церковь, в разных странах — католицизм)» [1, с. 34—35].
Последующая история Османского государства, его превращение в национальное государство, Турцию, подтверждают правильность мыслей Ю. Акчуры.
Статья «Три вида политики» была первой теоретической работой по тюркизму, в которой методом подробного систематизированного анализа рассматривалась возможность применения тюркизма в политической сфере. Эта статья, как признавал и сам ее автор, является самой важной и глубокой работой Ю. Акчуры не с точки зрения ее объема, а с точки зрения глу- бины ее анализа и отображения перспектив развития общества в будущем.
Один из европейских исследователей, За-реванд, писал, что «эта статья является для пантюркистов тем же, чем для марксистов был "Коммунистический манифест" К. Маркса» [3, с. 33]. Такой же мысли придерживается и американский писатель Чарльз Уоррэн [Там же].
Очень интересна мысль о значимости этой статьи французского исследователя Франсуа Жоржона. Он пишет: «Своеобразие работы заключается в том, что в эпицентре тюркистского проекта Ю. Акчуры находится Османское государство. Таким образом, эта статья как бы синтезировала в себе стремление российских тюрок к единству со стараниями османцев защитить свое государство. Иными словами, в этой работе Ю. Акчура старался сочетать тюркистские устремления татарской буржуазии с мыслью о защите Османского государства, которая была пробным камнем младотурецкой идеологии» [4, с. 44].
На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, важно то, что Ю. Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в основе будущего сильного государства должен лежать не принцип «гражданства», то есть некоего «безнационального населения определенной территории», и не принцип «исламизма», то есть принцип консолидации граждан с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип.
Возможно, предвидя, что в 1905 году Россия проиграет войну с Японией и в дальнейшем буржуазные потрясения и войны приведут к развалу Османской и Российской империй, этот его Большой тюркский политический проект и имел определенный практический выход для своего осуществления. Но история совершила свой непредвиденный зигзаг.
Затем вся его практическая деятельность и в России, и в дальнейшем в Турции шла в русле осуществления этого проекта создания единой тюркской нации, а позднее современной турецкой нации.
Конечно, представители передовых слоев османского общества также думали о необходимости буржуазной модернизации. Но какими же механизмами, идеями и образцами могло руководствоваться правительство для осуществления всего этого? Казалось бы, в этом деле могли быть помощниками христианские этносы империи, как наиболее европеизированные и наиболее продвинутые в буржуазном стиле жизни.
Здесь надо сказать, что все взаимоотношения между этносами в государстве, а также свя- зи между этносами и государством осуществлялись посредством системы «миллетов» (в арабском языке — «религиозная община, народ, нация»). Миллетами назывались религиозные общины. Например, православный греческий «миллет», иудейский «миллет», армянский «мил-лет» и т. д.
Кроме общегосударственных законов, жизнь этих миллетов регулировалась и внутриобщин-ными законами и правилами, соблюдение которых контролировалось религиозными главами этих общин-миллетов.
Из всех национальных меньшинств армянский миллет был наиболее продвинутым в социальной и административной сферах.
Казалось бы, армянский миллет мог бы быть своего рода катализатором модернизационных процессов в государстве, в развитии буржуазных отношений во всем обществе. Тем более что после султанских указов 1856 года представителям национальных меньшинств разрешалось вступать на все гражданские и военные должности, т. е. они уравнивались в правах с мусульманами. Много армян занимало самые высшие посты в государстве.
В парламенте 1876 и 1908 годов, когда были провозглашены соответственно 1-я и 2-я конституции Османского государства, было также очень много депутатов-армян. Формально главой армянской общины считался армянский патриарх, но реально руководила общиной в начальный период буржуазного развития финансовая буржуазия.
Однако турецкая элита и большинство турецкого населения даже гипотетически не рассматривали армянский миллет в качестве помощника в деле модернизации и возрождения былой мощи страны.
Во-первых, турки и армяне принадлежали к разным религиозным конфессиям.
Во-вторых, многие представители более националистически настроенной армянской средней торговой буржуазии побывали во Франции и вернулись на родину с идеями армянского национализма. Торговая армянская буржуазия, руководившая национальным движением, видела в ремесленниках-кустарях и особенно в крестьянских массах основную социальную базу будущего повстанческого движения.
В-третьих, западный торговый капитал использовал среднюю торговую армянскую буржуазию в качестве своего экономического посредника. Такая поддержка привела к усилению именно этого слоя буржуазии и дала толчок развитию национального движения.
Связь этой буржуазии с Западом основным мусульманским населением страны воспринималась, мягко выражаясь, негативно, так как западные товары заполонили рынки государства, что привело к массовому разорению класса ремесленников-кустарей и закрытию мастерских. Вторая причина развивающегося антагонизма заключалась в том, что по отношению к отсталым массам мусульманского населения армянская городская буржуазия выступала в виде представителей капитала, носящего в условиях Турции хищнический, преимущественно ростовщический характер.
Надо признать, что в действительности отдельные миллеты, обладавшие собственным частным правом, специальной налоговой системой, имевшие официальные представительства, поддерживавшиеся тайно или открыто посольствами зарубежных держав, находились в привилегированном положении по сравнению с арабским и особенно турецким населением империи.
Опасность чрезмерного усиления «милле-тов» была столь очевидна, что младотурки (младотурки — представители политического движения в Османской империи, которое начиная с 1876 года пыталось провести либеральные реформы и создать конституционное государственное устройство) после революции 1908 года в рамках их политики «паносманизма» отменили статус «миллет», включив немусульманские меньшинства в общую правовую систему граждан империи. Именно в результате этого решения в 1914 году впервые армяне были призваны в османскую армию.
Хотя равенство народов империи было провозглашено еще в Конституции 1876 года, однако многие ее положения были только продекларированы и не внедрялись в жизнь, к тому же эта Конституция действовала всего 2 года. Вследствие этого младотуркам пришлось заново заняться статусом миллетов, а именно отменить их.
Более позднее формирование национализма у турок объясняется тем, что у них практически отсутствовал класс буржуазии, османская буржуазия состояла в основном из представителей «миллетов». Согласно традиционным представлениям турок, считалось престижным работать чиновником или служащим в административном аппарате или служить в армии. Крестьянский труд также считался приемлемым. Но бизнес, работа в СМИ, искусство, банковское дело — все это считалось делом, недостойным турка. Этим занимались «неверные». Вследствие всего этого у турецкого национализма не было своего «движителя» — турецкой нацио- нальной буржуазии. Ее активный рост и выход на историческую арену начинается лишь во втором десятилетии ХХ века.
В начале ХХ века правящие круги государства были уже обеспокоены тем, что национальные меньшинства полностью монополизировали промышленность, торговлю, банковское дело, журналистику и книгопечатание. Уже в правление Абдулхамида II были приняты некоторые меры по ослаблению подобной монополизации: защита местной промышленности, покровительство местным торговцам, инициатива создания крупной промышленности, прокладка железных дорог при помощи национального капитала и т. д.
А теперь обратим свое внимание на Японию того времени. Дело в том, что в 1868—1889 годы в этой стране были очень удачно проведены реформы Мэйдзи. За 21 год Япония из отсталой аграрной страны превратилась в одно из ведущих государств мира. Эти реформы сформировали японское национальное государство и японскую национальную идентичность.
После 1905 года турецкую элиту начинает особо привлекать своеобразная модель развития Японии, позволившая этой стране провести техническую модернизацию и в то же время сохранить свою традиционную религию и обычаи. После турецкой революции 1908 года новые правители Турции предлагают взять за образец японскую модель развития. «Модель Японии» становится темой споров между интеллигентами, исламистами и тюркистами. Однако Япония являлась далекой и недостаточно изученной страной с незнакомой религией.
И вот в эти годы Юсуф Акчура и его единомышленники из татарских интеллектуалов предложили другой, более близкий османцам образец.
Этот образец (или татарская буржуазная модель), с географической стороны являвшийся и мусульманским, и тюркским, и с позиции культуры был более близким образцом, нежели японский, и потому был достойным для подражания.
Турки и татары этнически, лингвистически, исторически и в религиозном плане были очень близки. Это два родственных тюркских народа.
Как известно, Стамбул и Казань в начале ХХ века были двумя центрами книжности и учености тюркского мира, центрами формирования этнического, национального и тюркского самосознания. Между татарами России и Стамбулом существовали теснейшие идейные и культурные связи, которые выражались в постоянных кон- тактах людей и обмене информацией через газетные и журнальные материалы, а также через литературные произведения.
Довольно много татарских крестьян (около 70 тысяч человек) в конце XIX века эмигрировало в Османское государство, также много татарской молодежи приезжало туда на учебу.
В татарские медресе того периода из Стамбула привозили турецкие учебники, татарская интеллигенция знакомилась с французскими романами, в том числе и через турецкие переводы.
Влияние турецкого языка на татарский мы видим в ранних произведениях Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала. Одно время в татарском обществе даже ставился вопрос «Переводить ли всю систему образования на общетюркский литературный язык, близкий к турецкому, или преподавать на основе народного татарского языка?». Победил второй вариант.
В то же время в начале ХХ века, особенно после 1917 года, в Турцию эмигрировала, а также временно проживала в этой стране большая плеяда выдающихся представителей татарской интеллектуальной элиты, которая оказала колоссальное влияние на политическую, общественную и культурную жизнь Османского государства, а в дальнейшем и республиканской Турции.
Для того чтобы понять, почему татарская модель была принята турецкой элитой на вооружение, необходимо ознакомиться с некоторыми конкретными сведениями, которые бы могли охарактеризовать развитость татарского и турецкого обществ начала ХХ века.
Довольно многогранную характеристику этих двух обществ нам дает книга талантливого татарского журналиста, литератора и общественного деятеля Фатиха Карими (1870—1937) «Истанбул мектуплары» («Стамбульские письма»), которую можно назвать настоящей энциклопедией турецкой жизни в преддверии Первой мировой войны. Она также отражает и культурное взаимовлияние татарской и турецкой культур. Книга состоит из многочисленных писем-статей, которые автор присылал из Турции в качестве специального корреспондента оренбургской газеты «Вакыт» («Время») в ее редакцию.
Приведем несколько примеров из той разновидности материалов, где автор критикует застойные явления в общественной жизни Турции. Он пишет: «Турецкая молодежь и интеллигенция средней руки — это довольно нечувствительная и беззаботная публика. Они лишь ходят на службу, получают жалование, красиво и с шиком одеваются, о чем-либо другом мало задумываются.
У них начисто отсутствуют любовь к родине, к нации, чувство конкурентной борьбы с другими нациями, самолюбие и идеал. Все дни и вечера они проводят, сидя в кофейнях, наслаждаясь декламацией каких-то арабских и персидских стихотворений. Короче говоря, на них мало какой-нибудь надежды.
Но есть интеллигенты и другого типа, которые обладают европейским образованием и любят родину, но им не хватает силы духа. Они не верят в то, что смогут реформировать правительство… Но их так мало, они как капли в море, поэтому они не могут повлиять на общее положение дел» [1, с. 49].
Далее автор пишет о причинах подобного состояния общества и предлагает свои рецепты исправления: «У них очень плохо поставлено начальное образование. Большой вред наносят газеты. Они не пишут правду. Если бы они писали правду, а недостатки осознавались бы, то была бы несомненная польза обществу» [5, с. 48—49].
Фатиха Карими поражает и огорчает прежде всего то, что почти все магазины в Стамбуле принадлежат грекам и армянам, отели и рестораны — грекам, книгоиздательское и газетное дело тоже в руках не турецкой буржуазии. Он замечает, что турецкие школы учебниками снабжают в основном армяне, они же и изготавливают эти учебники [5, с. 20].
Автор статей огорчен также качеством и направленностью турецких газет. Он пишет: «У коренного турецкого народа, можно сказать, отсутствует периодическая печать в европейском смысле слова. Армянские, греческие, еврейские и даже арабские газеты, все они служат идеалам своих наций, служат своим строго оберегаемым интересам. Они идут тем путем, который известно куда их приведет. Их ориентиры и цели всем известны, и они двигаются очень уверенно и решительно. Лишь у турецкой прессы нет известного и точного ориентира (идеологии), у нее нет идеала» [5, с. 374, 393].
Татарский журналист замечает, что самая крупная ежедневная газета Стамбула «Сабах» («Утро»), выходящая тиражом 40 тысяч экземпляров, издается армянином, господином Михра-ном, а автором ее политических редакционных статей является также армянин, председатель Общества стамбульских печатников Диран Кел-кян [5, с. 80].
Фатих Карими сообщает, что единственным и почти монопольным печатным органом, выражающим интересы тюрок, является журнал
«Тюрк Юрду» («Тюркская родина»), выходящий 2 раза в месяц [5, с. 375], пользующийся любовью читателей и занявший соответствующее ему высокое положение [5, с. 80]. Следует заметить, что благодаря руководителю журнала, выходцу из казанских татар Юсуфу Акчуре «Тюрк Юрду» стал своеобразным окном в широкий тюркский мир, мир российских тюрок.
Этот журнал был создан в Стамбуле в 1911 году при финансовой поддержке представителей крупной татарской буржуазии из г. Оренбурга братьев Ахмет-Гани и Махмута Хусаиновых. Главным направлением журнала было распространение идеи сотрудничества и единения тюркских народов. Это издание знакомило турок с общественной и культурной жизнью российских тюрок, в том числе и татар. Журнал также распространялся в России и читался в Казани и других городах с татарским населением. Фактически это был также и первый журнал в Османской империи, который активно формировал у турок этническое и национальное самосознание.
В это же время в Стамбуле при участии османских евреев издавалась газета на французском языке под названием «Жён Тюрк» («Младотурок») [5, с. 96—97]. Судя по названию, она также, на наш взгляд, была тюркистской направленности, но по своему влиянию ни в какое сравнение не шла с «Тюрк Юрду».
В статье Фатиха Карими «Татары в Турции» рассказывается о культурном влиянии татарских эмигрантов и студентов, проживающих в этой стране, на жизнь турецкого общества. Это влияние наблюдалось в четырех областях: в области сельского хозяйства, обучения в высшей школе, общественной жизни и положения женщин в обществе. Из содержания статьи видно, что татарские крестьяне-эмигранты, поселившиеся в окрестностях города Эскишехира, впервые в Турции показали турецким крестьянам облегченные четырехколесные телеги, косы и молотильные машины, облегченные железные плуги и технологию их использования, что намного облегчало и рационализировало крестьянский труд.
Интересно то, что турецкие сельские чиновники (по-нашему, главы сельских администраций) собирали турецких крестьян в группы по 100 или 200 человек и отправляли их в татарские деревни, чтобы те перенимали опыт работы татарских крестьян [5, с. 413].
Татарские студенты, обучавшиеся в высших учебных заведениях Турции, также были образцом для подражания всем остальным. Их отличала одухотворенность, наличие хотя бы каких-то идеалов, подготовка себя к настоящему и бу- дущему, работоспособность, стабильность и старательность. Автор статьи неоднократно слышал лестные отзывы о них из уст ректоров Стамбульского университета и Стамбульского педагогического института [5, с. 414].
Что же касается общественной жизни, то турки считали татар более идейными, активными и трудолюбивыми, чем они сами, с интересом наблюдали за активностью, живостью и сплоченностью татар.
Вот одно из высказываний некоего турка, которое подтверждает вышесказанное: «В сфере общественной жизни и экономики вы, казанские тюрки, несомненно, опередили нас, османских тюрок. У нас, конечно, есть такая вещь, как политическая независимость, но она представляет из себя всего лишь внешний окрас, который постоянно шелушится и опадает, внутри же всё сгнило. Если в государстве общественная жизнь и экономическая сфера никуда не годятся, то нет пользы и от таких вещей, как свобода, равенство, справедливость» [5, с. 415].
Некоторые турки надеются на помощь со стороны российских мусульман в деле организации культурного движения, в деле создания неких общественных и экономических структур. Они говорят, что вынуждены брать пример с татар [5, с. 415].
Что касается женского вопроса, то нужно признать, что положение в обществе татарской женщины, особенно образованной, по сравнению с положением турецкой женщины, было несравненно выше, она была более свободна, более активна в общественной жизни и ближе к жизни мужа, чем турецкая женщина.
Например, турки были поражены тем, что во время Балканской войны четыре студентки-татарки из российских университетов приехали одни за свой счет в Стамбул, чтобы бесплатно ухаживать в госпиталях за ранеными турецкими солдатами, что они ходили с открытыми лицами на улицах Стамбула, если нужно, заводили разговор с мужчиной, посещали собрания, где обычно были одни мужчины, в то же время ни на йоту не теряли своей целомудренности и хорошей репутации, что турецкие мужчины чувствовали перед ними необходимость вести себя как перед европейскими дамами. Многие турки, глядя на них, говорили, что учеба и выход на улицу с открытым лицом не несут в себе ничего вредного для мусульманки. А турчанки, видя поведение татарок в обществе, укоряли и обвиняли своих мужей в том, что они ограничивают их права и свободы.
В заключение вышеизложенного следует сказать, что ко времени начала Первой мировой войны татарский народ обладал уже довольно значительным экономическим и культурным потенциалом. Благодаря бурно развивающимся российским коммуникациям татарская буржуазия и интеллигенция распространили свою деятельность на многие регионы России с тюркским населением. Татарские учителя и татарские учебники проникали в Казахстан и Среднюю Азию.
Как мы видим, татарская культура и «татарский стиль» жизни были привлекательны и для турок Османской империи.
В чем же состояла специфика влияния татарских интеллектуалов на турецкую элиту и жизнь турецкого общества начала ХХ века?
Предлагаемая для турецкого общества татарская модель развития содержала в себе три направления для достижения прогресса: исламизм (уважение религиозных традиций, реформа религиозного образования), тюркизм (тюркское национальное самосознание, ощущение единства всех тюрков, исследования по тюркской истории), модернизация (развитие буржуазных отношений, медицины, педагогики, свободы женщин, социальный и экономический прогресс). Считалось, что у татар исламизм, тюркизм и модернизация сильнее, чем у османских тюрков. Для османских тюрков эта идея выражалась девизом «Быть больше мусульманином, больше тюрком, быть более современным». (Действительно, в татарском обществе того времени уже существовала довольно крупная буржуазия: например, львиная доля тканей для царской армии производилась на фабриках татарских предпринимателей Акчуриных, среди татар имелись и крупные золотопромышленники и т. д. У татар тогда уже были и зачатки гражданского общества, выражавшиеся в организации жизни общества в форме сельских и городских махалля — мусульманских общин.)
Постепенно и турецкие деятели стали представлять турецкую культуру как синтез этих трех основных элементов. По мнению известного турецкого идеолога Зии Гёкалпа, этот синтез должен был появиться как результат процесса непрерывного взаимообмена между интеллигенцией, являющейся хозяйкой цивилизации, и между простым народом, являющимся хозяином культуры.
Ю. Акчура же придерживался мысли, что данный синтез уже появился в татарском обществе или, по крайней мере, начал формироваться.
Следует признать, что османские тюрки обладали сильными государственными традиция- ми, у татар же наблюдался явный прогресс в экономической, социальной и культурной жизни, появлялись уже некоторые элементы гражданского общества, другими словами, это были культурные связи между государством без буржуазии (Османской империей) и татарской буржуазией, лишенной собственного национального государства.
На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, важно то, что Ю. Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в основе будущего сильного государства должен лежать не принцип «гражданства», т. е. некоего «без-национального населения определенной территории», и не принцип «исламизма», т. е. принцип консолидации граждан с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип.
Подобная концепция генетически связана с татарским джадидизмом (обновленческим движением), суть которого в идеолого-политическом плане сводилась к тому, что татарская элита пыталась создать гармоничный синтез ислама с национализмом и сопутствующей ему (национализму) модернизацией.
В связи с тем, что сейчас на просторах бывшего СССР во вновь образовавшихся государствах идет формирование новых буржуазных наций, идейное направление, опирающееся на этнический фактор, будет еще долго считаться актуальным. Нации не создаются политическими декларациями, для этого требуется долгая культурная эволюция. Не достигнув уровня нации, невозможно перейти к демократии.
Тем не менее среди радикальных мусульман (особенно среди неофитов) находятся люди, которые заявляют, что ислам отвергает национализм и что необходимо строить чисто исламское государство, без учета национального фактора. Но превращение Османского религиозного государства в светское национальное государство Турцию говорит, что будущее за национальными государствами.
-
1. Akçura oğlu Yusuf. Üç tarzı siyaset. Ankara (далее — Ank.), 1976, Türk tarih kurumu yayınları, VII dizi. Sa 73.
-
2. Шура. Оренбург, 1909. № 11. Б. 347.
-
3. Temir Ahmet. Yusuf Akçura. Ank. : Kültür ve turizm bakanlığı yayınları, 1987.
-
4. Georgeon Fransois. Türk milliyetçiliğinin kökenleri. Ank. : Yurt yayınları, 1986.
-
5. Карими Фатых. Истанбул мектуплары. Оренбург, 1913.
Список литературы Юсуф Акчура в эпоху перемен
- Akçura оglu Yusuf. Üç tarzi siyaset. Ankara (далее -Ank.), 1976, Türk tarïh kurumu yayinlari, VII dizi. Sa 73.
- Шура. Оренбург, 1909. № И. Б. 347.
- Temir Ahmet. Yusuf Akçura. Ank.: Kültür ve turizm bakanligi yayinlari, 1987.
- Georgeon Fransois. Türk milliyetçiliginin kökenleri. Ank.: Yurt yayinlari, 1986.
- Карими Фатых. Истанбул мектуплары. Оренбург, 1913.