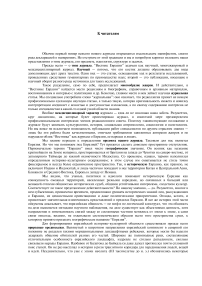К читателям
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Статья в выпуске: 1, 1995 года.
Бесплатный доступ
ID: 14911661 Короткий адрес: https://sciup.org/14911661
Текст ред. заметки К читателям
Мы видим, что ученые, политики и идеологи понимают историческую Евразию как совокупность смежных территорий, населенных разными народами, но связанных в большей или меньшей степени общностью исторических судеб, общими устойчивыми интересами, сходством культур. Соответствует ли такое представление действительности? По нашему мнению, — да. Разумеется, многое в нем субъективно, привнесено временем, продиктовано уровнем исторических знаний лиц, рассуждающих о Евразии, их ценностными ориентациями и даже политическими приоритетами. Отсюда, кстати, и проистекает значительная изменчивость представлений о пределах Евразии. И все же история этой части ойкумены доказывает, что евразийская общность — не миф и не логический конструкт, что эта общность на деле выявляется методами научного наблюдения, на деле существует как объективная данность, хотя направление и интенсивность связей между ее составными частями менялись от эпохи к эпохе, а сами связи никогда, видимо, не охватывали систематическим образом всего того пространства суши, к которому принято прилагать географическое название “Евразия”.
Для формирования евразийской историко-культурной общности существовали прежде всего природные предпосылки. Вытянутый в широтном направлении евразийский континент в северной его половине не разделен такими меридиональными ландшафтными рубежами, которые могли бы надолго задержать общение обитателей разных его частей. Широкие же полноводные реки, составляющие отличительную особенность евразийского ландшафта, издревле не столько разъединяли, сколько связывали народы Евразии. Вдобавок от Балатона до Байкала (и даже далее) протянулся почти сплошной пояс степей. Он не раз выступал в истории в роли транзитного коридора для передвижения людей, вещей и идей. Неудивительно, что уже с эпохи неолита (III тысячелетие до н. э.) обозначились некоторые общие для населения Евразии черты. Можно сказать и так: близкие ландшафтно-природные условия способствовали формированию сходных хозяйственно-культурных типов, а все более учащавшиеся прямые и/или опосредованные контакты — распространению культурных новаций и, как следствие, известной унификации культурного облика.
Следует также напомнить, что в Евразии с древности происходили массовые миграции населения — такие, как расселение индоевропейцев, а позже их индоиранской ветви, — которые уже тогда обусловили этнокультурное родство достаточно удаленных друг от друга регионов. Сложение на рубеже II—I тысячелетий до н. э. кочевого скотоводства — хозяйственного уклада, требующего высокой подвижности населения, обеспечило еще более тесное сближение разных историко-этнографических областей и культурных провинций Евразии. Раньше всего это произошло в степном поясе и на территориях, непосредственно к нему прилегающих с севера и юга. А впервые значительная близость культур отчетливо проявилась (даже у неродственных народов) в I тысячелетии до н. э., в так называемую скифскую эпоху. В последующие века евразийский степной коридор был свидетелем массовых перемещений сарматов, алан, гуннов и, наконец, тюрков, распространившихся из сравнительно небольшого района в сердце Центральной Азии на огромные пространства Старого Света.
В период развитого средневековья хаотичную миграцию аморфных племенных союзов сменила планомерная завоевательная политика государств. Результатом ее периодически становилось утверждение “мировых” держав в масштабах всей тогдашней Евразии или ее значительной части. Империи Чингиса и Тимура — наиболее яркие, всем известные примеры. Становление этих и меньших империй сопровождалось большими перемещениями и смешениями населения, а в пору своей зрелости империи, хотя они и обладали разной степенью устойчивости, всегда содействовали культурной интеграции крупных регионов. Затем, после завоевания Московским государством Поволжья и с началом его проникновения на восток, за Урал и на юг, в низовья Терека и Яика, стало ощущаться влияние нового объединительного фактора — миграционного потока русского населения на восток и на юг — фактора, в течение многих десятилетий и даже веков игравшего одну из ключевых ролей в судьбах народов Евразии. Так постепенно складывалась в Евразии та ситуация, которую мы наблюдаем в наши дни — исключительная этническая пестрота при сохранении компактных территорий обитания одних народов и активной диффузии в иноэтничную среду — других.
Для завершения формирования исторической Евразии решающее значение имела колониальная экспансия Российской империи. Она распространилась на земли, непосредственно примыкающие к “метрополии”, а не отделенные от нее морями и океанами, как это было в случае с остальными империями нового времени. И она “возвращала” в лоно единого государства земли, уже некогда входившие в состав прежних “мировых” империй (и в этом еще одно ее отличие от европейских). “Наследственные” права русских царей, с одной стороны, сплошное пространственное “расползание” России (и русских) — с другой, оказались обручем, окончательно скрепившим Евразию в политическом, идеологическом и культурном отношении. Рубцы от сжатия этого обруча были болезненными, нередко — кровавыми; однако даже деформации в исторической жизни стиснутых им народов составляют их общее наследие. Но если эта часть наследия вызывала и вызывает протест, желание и попытки как можно скорее изжить ее, то итоги совместной культурной работы, культуротворчества во взаимодействии и через взаимодействие, несут в себе уже куда более трудно оспариваемое и во многом неотменимое объединяющее начало .
От взятия Казани до установления протектората над Урянхайским краем (Тувой) Российская империя строилась свыше 350 лет и имела к тому же более короткое по времени, но едва ли не более мощное по своим последствиям 70-летнее советское продолжение. Уже одна продолжительность времени существования империи придала очень большую инерционную силу процессам экономической интеграции, аккультурации и культурного синтеза, и сейчас продолжающимся в Евразии. Показательно, что не успела старая Российская империя рухнуть, как тотчас появились две модели ее воссоздания. Большевики предложили модель государства классового, атеистического и многонационального , цементируемого идеологией интернационализма; русская эмиграция — модель государства “соборного” (корпоративного), православного и опять-таки многонационального , скрепляемого идеологией наднационального “евразийского” национализма. Эти модели различны по всем пунктам, кроме одного и как раз того, которым исключаются этноцентризм и национальная государственность. СССР представлял собой практическое воплощение первой модели; в нынешнем постсоветском пространстве сторонники нового объединения чаще обращаются ко второй (правда, всячески переделывая ее в деталях, а то и извращая по сути).
Как бы ни относились мы к авторам первой модели, очевидно, что они сумели в общих чертах реализовать свои замыслы. Но тем самым они заново упрочили евразийскую общность примерно в тех же границах, в каких она обладала государственным статусом до 1917 года. Очевидно также, что периодически вспыхивающая тяга к реинтеграции ощущается сейчас (хотя и с разной силой) в пространстве, опять-таки приблизительно очерчиваемом границами бывшего СССР. В первом случае от евразийского государства безвозвратно откололись его крайние западные и юго-западные выступы: Финляндия, Польша, Карсская область; во втором — при утрате Евразией былого государственного единства высвободиться из-под влияния евразийского наследия не удалось до конца даже странам Балтии. Все это позволяет утверждать, что применительно к современности вполне корректным (и даже, пожалуй, наиболее точным) является представление о Евразии как о пространстве бывшего СССР — за вычетом разве что Прибалтики. А из рассмотрения прошлого евразийской общности нельзя, по-видимому, исключать территории, некогда входившие в состав Российской/Советской империи, равно как и территории, которые либо подпадали под ее больший или меньший фактический контроль, явно или неявно от нее зависели (временно оккупированные районы, негласно установленные “зоны влияния”), либо являлись объектом “зарубежной” русской крестьянской колонизации (Польша и Финляндия, приграничные с Россией области Турции и Ирана, Афганистан, Кульджинский край в Синьцзяне, Монголия и Маньчжурия).
Такому определению предмета нашего журнала ничуть не противоречит его идеология . Она проста и, как мы полагаем, необременительна ни для авторов, ни для читателей. Она и идеологией-то может называться лишь условно, поскольку лишена основы идеологизации — оценочной интеграции явлений. Более того, одна из наших главных установок при отборе материалов к публикации — это стремление удержать авторов от априорных апологетик или инвектив по поводу феномена евразийской общности. Мы будем считать своими единомышленниками тех, кто в качестве отправной точки для подлинно глубокого познания этого феномена принимает априори лишь одно положение: историческая Евразия существовала в прошлом и существует в настоящем. Этого — достаточно.
Структура “Вестника Евразии” отражена в его рубрикации. Ниже предлагается перечень рубрик (с краткой характеристикой каждой). В будущем могут появиться новые рубрики, тогда как в отношении некоторых старых, быть может, станет ясно, что они не состоялись или исчерпали себя.
ЕВРАЗИЙСТВО. Необходимость такой рубрики в нашем журнале очевидна. Под ней будут печататься исследования по историософии евразийцев, критика современных эпигонов и фальсификаторов евразийства, статьи о творчестве тех ученых, чьи взгляды, в целом достаточно оригинальные, по ряду позиций очень близки взглядам евразийцев (например, о научном наследии Л. Н. Гумилева).
ПРОСТРАНСТВО. Здесь предполагаются материалы по следующим темам: пределы евразийского пространства и его части; его восприятие изнутри и извне; позиционные особенности и поселенческая структура Евразии и ее регионов; ландшафты и их влияние на культуры; социоестественная история Евразии; современные экологические проблемы и т. п.
ОБЩЕНИЕ. Одним из основных факторов сохранения единого евразийского пространства были и остаются пронизывающие его связи общения. По ним передается экономическая, политическая и культурная информация, осуществляются социализация и индоктринация и т. д. Мы решили ввести специальную рубрику для исследований, в которых разные виды этих связей рассматриваются на разных уровнях их функционирования — от внутридеревенского и внутригородского до межрегионального.
ЛЮДИ. Эта рубрика будет покрывать разные группы материалов: исследования по отдельным этносоциальным группам; исторические биографии выдающихся евразийских деятелей в области науки, культуры, религии, политики, предпринимательства; портреты современных политиков, исследования различных сторон жизни и сознания “обычных” людей, равно как и научно-комментированные изложения примечательных эпизодов и полных историй их жизни (так называемые “life stories”) и т. п.
НАРОДЫ. Под этой рубрикой будут собраны в первую очередь диахронные исследования по актуальным проблемам истории Евразии и отдельных ее частей. Возможны и иные материалы: по демографии, этногенезу, политической и военной истории и т. д. Важно только, чтобы содержание материалов рубрики показывало, во-первых, взаимосвязь различных блоков евразийского пространства; во-вторых, роль исторического наследия в возникновении современных проблем.
МИФЫ. Данная рубрика призвана собрать материалы, посвященные разбору национальных “идей”, причем как в их элитарной, рафинированной версии, так и в самой что ни на есть расхожей, упрощенной, бытовой. Эти материалы могут быть спровоцированы творчеством профессиональных национальных идеологов и “искателей корней” и трудами дилетантов. В пределы рубрики также вписываются статьи с новой трактовкой событий и явлений, подвергшихся мифологизации в научном и/или массовом сознании.
БЕЗОПАСНОСТЬ. В этом разделе журнала предполагается сконцентрировать статьи о евразийской безопасности во всех ее аспектах и ракурсах: о безопасности национальной и региональной, экологической и экономической, социальной и военной, личностной и групповой и т. д. Сюда же войдут материалы по реальным и потенциальным конфликтам, положению с правами человека и меньшинств, по военным доктринам, позициям партий в вопросах безопасности, межгосударственным отношениям и пр.
РЕГИОНЫ. Здесь будет даваться развернутая информационно-аналитическая характеристика какого-либо региона в составе Евразии (скажем, небольшого государства или российской республики, или области) с акцентом на тех проблемах, которые представляются наиболее важными, актуальными.
СТЕРЕОСКОП. Эта рубрика специально предназначена для статей, написанных на основе междисциплинарного подхода и благодаря этому обеспечивающих объемное восприятие анализируемого в них материала.
ЖИВОЙ ГОЛОС. Этот раздел отводится под архивные публикации, воспоминания, письма, интервью и т. п. В нем будут также присутствовать материалы еще двух видов: во-первых, очерки и эссе ученых, которые по тем или иным причинам научной статье предпочли публицистический жанр; во-вторых, опыты начинающих, в которых недостаток профессионализма искупается необычностью сюжета или свежестью взгляда.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Раздел предназначен для рецензий на книги и статьи, для обзоров конференций. Возможно появление в нем и аннотаций, библиографий по отдельным проблемам. Естественно, что работы, освещаемые в рамках этого раздела, должны быть тематически близки содержанию журнала.
Надеемся, что не утомили вас, дорогие читатели, столь длительным вступлением к журналу. Читайте, смотрите содержание, выбирайте статьи по вкусу! И не забудьте взглянуть на помещенный в самом конце анонс публикаций в ближайших номерах. Наша триединая задача — создать из журнала центр притяжения размышлений о Евразии, сокровищницу знаний и трибуну дискуссий о ней. Узнать о том, справляемся ли мы с ее решением, мы сможем только по вашим письмам и спросу на журнал. Мы ждем откликов в той и в другой форме, а пока все-таки верим в успех нашего предприятия.
В заключение мы хотели выразить нашу признательность Либеральному фонду Фридриха Науманна (ФРГ). Благодаря его финансовой поддержке и стало возможным издание первого номера “Вестника Евразии”..
Редакционный совет