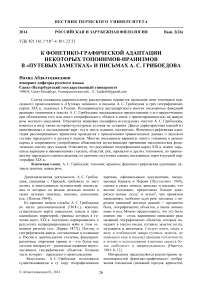К фонетико-графической адаптации некоторых топонимов-иранизмов в «Путевых заметках» и письмах А. С. Грибоедова
Автор: Абдалтаджедини Нахид
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика, теория перевода, литература в лингвистическом аспекте
Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному рассмотрению вариантов написания пяти топонимов персидского происхождения в «Путевых записках» и письмах А. С. Грибоедова и трех географических картах XIX в., изданных в России. Подчеркивается нестандартность многих письменных фиксаций иранских топонимов в текстах А. С. Грибоедова; высказывается предположение о его предпочтениях при обозначении того или иного географического объекта в связи с ориентированностью на живую речь местного населения. Отмечается жанровая специфика исследуемых текстов А. С. Грибоедова, имеются в виду также историко-культурные условия их создания. Дается характеристика каждой из привлекаемых к исследованию карт: год и место издания, составитель. Фонетико-графическая адаптация рассматриваемых иранизмов проводится с привлечением сравнительных данных о звуковом составе персидского и русского языков. Многие письменные варианты одного топонима в разных картах и современном употреблении объясняются естественными причинами несоответствия фонетических систем двух языков. Отмечается, что российские географические карты XIX в. имеют серьезные вариации в наименованиях городов, областей, рек, перевалов и других топонимов, по преимуществу персидского происхождения, по причине отсутствия единых письменных норм в русской картографии XIX в.
А. с. грибоедов, топоним, иранизм, фонетико-графическая адаптация, путевые заметки, живая речь
Короткий адрес: https://sciup.org/14729304
IDR: 14729304 | УДК: 821.161.1“18”-4:
Текст научной статьи К фонетико-графической адаптации некоторых топонимов-иранизмов в «Путевых заметках» и письмах А. С. Грибоедова
Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова, связанная с Персией, требовала от него долгих и многодневных путешествий, впечатления от которых он весьма детально излагал в своих путевых заметках, письмах, донесениях (см.: [Попова 1964]).
Ко времени начала службы А. С. Грибоедова по части дипломатической (1818 г.), конечно, существовали карты кавказских земель и прикаспийских территорий, границы которых в течение всего XIX в. постоянно перекраивались в результате непрекращающихся войн в этом огненном регионе (см.: [Берже 1877]). Потому и географические карты, составленные и изданные в России в девятнадцатом столетии, фиксируют различные очертания границ и – что более нас сегодня интересует – различные названия многочисленных географических объектов, большая часть которых – персидского происхождения.
Безусловно, А. С. Грибоедов пользовался существовавшими в ту пору географическими картами, официальными документами, касающимися Кавказа и Персии [Шостакович 1960], однако в своих личных записках и письмах, что вполне возможно, предпочитал больше доверяться своему слуху1 и чутью2, чем принятым написаниям, особенно если речь заходила о передаче названий местных реалий — предметов быта, географических объектов, а также личных имен и под. Можно предположить, что это было именно так – столь вариативно написание ряда названий географических объектов, которые попадают в тексты писем, путевых заметок поэта, музыканта и дипломата. Следует иметь также в виду и особенности жанра путевых заметок, не имеющего (как и письма) признака публичности, а потому в использовании языковых средств более свободного и непринужденного [Иванчук 1984: 8–12].
Интересным представляется рассмотрение закономерностей фонетико-графического отображения топонимов (названий городов, крепостей, областей, селений и др.), имеющих иранское происхождение (см. также: [Эфендиева 1974]), в дневниках и письмах А. С. Грибоедова [Грибоедов 1911-1917] (далее – ПЗ). Материалом для сопоставления в настоящей работе явились три российские карты Кавказа и севера Ирана, изданные в разные годы XIX в.
Первая карта, принятая здесь к рассмотрению, составлена известным картографом, начальником топографического отделения канцелярии генерал-квартирмейстера, генерал-майором А. И. Хатовым в 1818 г. [Хатов 2014] (далее – К1). Она совпадает по времени своего составления с началом дипломатической службы А. С. Грибоедова на Кавказе и в Персии.
Следующая карта была издана в 1823 г. С. М. Броневским, известным историком Кавказа, участником русско-персидской войны 1796 г. [Броневский 1823] (далее – К2). Она интересна тем, что утверждает границы и названия местностей в соответствии с уже устоявшимися к этому времени «стандартами»: после Гилюстанского мирного договора 1813 г. русско-персидские отношения характеризуются некоторой стабильностью, А. С. Грибоедов на время покидает службу, до русско-персидской войны 1826 г. – 3 вполне мирных года в регионе [Фомичёв 2012].
Третья карта, взятая к рассмотрению, издана в конце XIX в. известнейшим историком Кавказа В. А. Потто и представляет собой в полной мере официальное картографическое описание той же местности с учетом пересмотра границ и владений российского государства согласно Туркман-чайскому мирному договору (1828 г.), основные позиции которого были разработаны в том числе и А. С. Грибоедовым [Потто 1887-1899] (далее – К3).
Путевые заметки и письма А. С. Грибоедова интересующего нас периода охватывают несколько маршрутов из России через Кавказ на Персию; их знаковыми (важнейшими) пунктами можно считать Моздок, Тифлис, Тавриз, Тегеран (см.: [Мещеряков 1989]).
Очевидно, что возможные пути адаптации иранизмов в русском тексте следует наблюдать на фоне имеющихся данных о родстве языков, в том числе – о соотношении тех языковых уровней, которые нас в данном случае интересуют. Иранские и славянские языки, как известно, в генетическом отношении представляют собой отдельные ветви одной индоевропейской семьи [Эдельман 1990: 200–201].
Фонетический строй персидского языка характеризуется наличием 32 букв: 8 гласных и 23 согласных фонем, а также двух дифтонгов: [оu], [еi]. В фонологической системе персидского языка, в отличие от русской, представлены долгие [ā], [ū], [ī], краткие гласные [а], [е], [о] (см.: [Самаре 2007]). В русском языке, как известно, ударение подвижно и ударный элемент произносится с большей силой, более отчетливо и с большей длительностью. В персидском же языке ударение в большинстве случаев закреплено за последним слогом в слове.
Персидская графика, помимо букв, использует также некоторые надстрочные и подстрочные знаки. К ним относятся: 1) огласовки, служащие для обозначения кратких гласных ـُ ــ ــ; 2) надстрочный знак ташдид __ّ, указывающий на удвоение согласного звука; 3) краткие гласные получают отображение лишь в начале и конце слова, в остальных позициях в обычном тексте они отсутствуют [Овчинникова 1956].
Путем сопоставления контекстов с употреблением ряда характерных в выбранном аспекте топонимов в дневниках и письмах А. С. Грибоедова с аналогичными топонимами в указанных картах Кавказа приходим к следующим наблюдениям.
-
1. Написание названия города и крепости на севере Ирана Аббас-Абад .
Перс. عباّس آباد[Abbās Ābād] → К1: Абаз-Абад, К2: Абасабалъ, К3: Абас-Абад. В письмах и дневниках А. С. Грибоедова устойчиво написание Аббас-Абад с удвоенной бб в первой части сложного наименования, что вполне соответст- вует и произношению, и написанию в иранском языке, поскольку таштид здесь присутствует –
:عباّس
-
• Ныньче мы пройдя Эриванскую и Нахиче-
- ванскую области, стали на Араксѣ, овладѣли Аббасъ-Абадомъ <…> (ПЗ: Лагерь при селении Карабабы, 254);
-
• Нахичеванскую область очистить и считать нейтральною, кром ѣ Аббасъ-Абада , котораго гарнизонъ онъ на себя бралъ продовольствовать (ПЗ: Лагерь при селении Караба-бы, 259).
-
2. Написание региона в Восточном Закавказье Карабах .
Наиболее «вольную» переработку названия города-крепости позволил себе С. М. Броневский, дав однословное написание без всякого учета собственно фонетических особенностей слова (см.: [Броневский 1996]). А. С. Грибоедов же в письмах (как и в дневниках) очень точно передает звуковой облик иранского топонима. Трудно сказать, является ли это результатом воспроизведения услышанного / увиденного слова, но очевидно, что двойную согласную А. С. Грибоедов слышит отчетливо и повсеместно отражает в написании: А бб ас-Абад.
Известный современный топоним (хороним) Карабах передан в дневниках и записках А. С. Грибоедова вариативно в различных словоформах: и с конечным орфографическим г , и с конечным х , хотя персидское написание его таково: перс. قره باغ [Qarabā ɣ ]. В конце этого слова, как видим из транскрипции, в персидском языке присутствует звук [ ɣ ]:
-
• Онъ хот ѣ лъ, чтобы мы отступили къ Карабагу , а онъ — въ Тавризъ (ПЗ: Лагерь при селении Карабабы, 259);
-
• Между тем грузин или мусульманин из Ширвани, Карабага и проч . [Грибоедов А.С. Проект учреждения Российской Закавказской компании (1828)];
-
• Этотъ способъ пріобр ѣ сти дов ѣ ріе въ чужомъ народ ѣ и мн ѣ изв ѣ стенъ, – жаль, что я одинъ это понимаю во всей Персіи; такъ я д ѣ йствовалъ противъ турокъ, такъ и въ Карабах ѣ , и прошлаго года (ПЗ: Лагерь при селении Карабабы, 264).
Можно предположить, что при восприятии этого хоронима в речи на конце перед гласным заднего ряда А. С. Грибоедов более отчетливо слышит звонкий заднеязычный и передает его буквой г ( Карабага , Карабагу ), а перед гласным переднего ряда – глухой, что фиксирует на письме буквой х (Карабах ѣ ). Написание этого хоронима в грамматической форме местного падежа отлично от того, что дается, например, у Н. Ф. Дубровина, писавшего о тех же событиях, но чуть позже:
-
• Власть хана в Карабаге объявлена уничтоженною и жители приняли это известие с большою радостью [Дубровин Н. Ф. Биография А. П. Ермолова (1861 – 1869)].
Итак, в конце слова персидская заднеязычная фонема غ [ ɣ ] – согласный звонкий фрикативный увулярный, в абсолютном конце слова произносится близко к خ [ x ], глухому фрикативному увулярному, видимо, близкому по звучанию русскому заднеязычному фрикативному согласному [ х ], что передается А. С. Грибоедовым лишь в одной грамматической форме – местном падеже имени: Караба х е .
В рассматриваемых картах этот хороним дается в сочетании с политическим статусом территории: К1 – Ханство Карабахское; К2 – Ханство Карабагское; К3 – Ханство Карабахское.
В одном из редких случаев встречаем и у А. С. Грибоедова написание Карабахский с орфографическим х:
-
• Вид Нахичеванской долины, к с[еверо]-в[остоку] Карабахские горы, каменистые, самого чудного очертания [Грибоедов А. С. Эри-ванский поход (1827)].
Интересно, что лишь С. М. Броневский (К2) не производит на письме мену звонкого г на глухой х перед стечением глухих согласных суффикса - ск -. Как и С. М. Броневский, последователен в таком написании хоронима известный русский исследователь Кавказа (французского происхождения) А. П. Берже [Берже 2011]:
-
• Прямым и важнейшим последствием его была уступка навсегда России ханств: Карабаг-ского , Шекинского, Ганджинского [Берже А. П. Посольство А. П. Ермолова в Персию // Русская старина. 1877];
-
• Но выше всех по красоте и по происхождению стояла очаровательная Ага-бегюм-Ага, дочь Ибрагим-хана Карабагского [Берже А. П. Фетх-Али-Шах и его дети // Русская старина. 1886].
-
3. Написание названия ущелья (перевала) Дарьял .
Рассмотрение данного топонима интересно с позиции передачи в рассматриваемых текстах А. С. Грибоедова долгих и кратких гласных, имеющихся в фонетической системе персидского языка и отсутствующих, как известно, в русском [Оранский 1979]. Перс. داریال [dāryāl] в «Путевых заметках» (Моздок – Тифлис) А. С. Грибоедова последовательно передается следующим образом: Даріель, где персидский начальный долгий [ ā ] всегда имеет аналогию в русском топониме в виде фонемы [ а ] , в последнем же слоге — в виде [ е ] , причем в ударной позиции перед гласным переднего ряда [ і ] < [ y ]:
-
• Руины на скал ѣ . Вы ѣ здъ изъ Даріеля (ПЗ: Отъ Моздока до Тифлиса, 31);
-
• Проломъ отъ пороха. Даріель (ПЗ: Отъ Моздока до Тифлиса, 31).
-
4. Написание области и города Нахичевань .
Примечательно и то, что А. С. Грибоедов повсеместно передает на письме мягкость конечной согласной, что наблюдаем и в написании топонима на карте А. И. Хатова (К1). Однако на картах и С. М. Броневского (К2), и В. А. Потто (К3) дается вполне современное написание этого топонима с конечной л как обозначения твердого [л]. Следует отметить, что на всех трех картах, в отличие от грибоедовского написания, имеем последовательно и неукоснительно соблюдаемый переход долгого гласного персидского языка [ā] > рус. [а], причем в обоих слогах – и пер- вом, и последнем, вне зависимости от ударения и предшествующего звука: К1: Даріаль, К2: Даріалъ, К3: Дарьял (см.: [Никонов 1966: 116]).
И вновь позволительно здесь допущение, что А. С. Грибоедов, обладающий тонким музыкальным слухом, «услышал» в последнем слоге дифтонгическое по сути звучание двух гласных переднего ряда [ іе ] , соположенных друг другу и по ряду, и по подъему.
Интересны случаи смягчения конечного согласного, которые отмечаются А. С. Грибоедовым на русском письме в исконных персидских наименованиях, не имеющих этого смягчения, знаком ь , (см. Даріел ь ).
Перс. نخجوان و نخچوان [Nax ǰ avān] и [Naxčavān] в записках А. С. Грибоедова почти повсеместно (за редким исключением) дается с мягким конечным:
-
• Нахичевань. 9-го февраля [1819] [Грибоедов А. С. Путевые письма к С. Н. Бегичеву (1819)].
Первые две из рассматриваемых карт, более ранние и более близкие А. С. Грибоедову по времени, дают устойчивое написание с твердым конечным согласным, подтвержденным на письме постановкой буквы ъ в конце слова: К1: На-хичева нъ , К2: Нахичева нъ . Последняя (К3), изданная в конце XIX в., демонстрирует смягченное, «грибоедовское», написание: Нахичева нь .
Этот неровный и вариативный процесс, который мы наблюдаем при написании нескольких топонимов, говорит о попытке выравнивания звуковых форм у А. С. Грибоедова, так как в персидском языке мягкий согласный отсутствует (см.: [Шамсиева 1973]). Подобную же картину наблюдаем при сравнении написания области Ширван : во всех трех рассматриваемых картах дан «твердый вариант» этого топонима (К1, К2, К3: Ширва нъ ), совпадающий и с современным его написанием на кириллице. В записках и письмах А.С.Грибоедова встречаем оба варианта, правда, с преобладанием «мягкого»: Шир-ва нь .
Из первоначального сравнения письменных фиксаций нескольких топонимов иранского происхождения в записках и письмах А. С. Грибоедова с данными географических карт XIX в. видно, что к этому времени фонетико-графическая норма иранских топонимов в русской письменной речи (в том числе и «официальной» картографии) еще не установилась, а в дневниковых записках А. С. Грибоедова есть свои предпочтения, проистекающие, возможно, из его природной музыкальности, а также ориентированности на живую речь местных жителей.
Примечания
-
1 Не следует забывать о том, что А. С. Грибоедов обладал незаурядным музыкальным даром и был автором ряда известнейших музыкальных произведений.
² В течение всей дипломатической службы в Персии А. С. Грибоедов учил персидский язык и к концу жизни знал его в совершенстве.
Nakhid Abdaltajedini
Post-graduate Student of Department of Russian language
Saint-Petersburg State University
Список литературы К фонетико-графической адаптации некоторых топонимов-иранизмов в «Путевых заметках» и письмах А. С. Грибоедова
- Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: в 12 т./под ред. А. П. Берже. Тифлис, 1866-1904. Т. IV. 1870. 1019 с
- Берже А. П. Кавказская старина. Пятигорск: СНЕГ, 2011. 511 с
- Броневский С. М. Исторические выписки о сношениях России с горскими народами, в Кавказе обитающими/РАН. Институт востоковедения. СПб., 1996. 240 с
- Иванчук И. А. Живая речь в письмах А.С. Пушкина//Русская речь. 1984. №3. С. 8-12
- Мещеряков В. П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. М.: Современник, 1989. 478 с
- Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М.: Мысль, 1966. 512 с
- Овчинникова И. К. Учебник персидского языка. М.: Изд-во МГУ, 1956. Ч. 1. 440 с
- Оранский И. М. Иранские языки в историческом освещении. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1979. 238 с
- Попова О. И. Грибоедов -дипломат. М.: Междунар. отн., 1964. 219 с
- Самаре Я. Фонетика персидского языка. Тегеран, 2007. 195 с
- Фомичёв С. А. Александр Грибоедов. Биография. СПб.: Вита Нова, 2012. 512 с
- Шамсиева М. В. Фонетическая структура слов иранского происхождения в русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1973. 23 с
- Шостакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М.: Изд-во соц.-экон. лит. 1960. 295 с
- Эдельман Д. И. Иранские языки//Лингв. энцикл. словарь/гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 200-201
- Эфендиева А. Д. Теоретические основы проблемы заимствования применительно к ориентализмам в средневековом русском языке//Ученые записки Азербайджанского педагогического института языков. Сер. 12. 1974. №3. С. 15-22