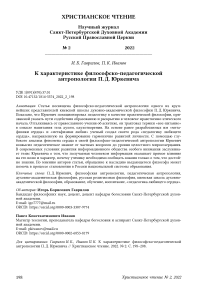К характеристике философско-педагогической антропологии П. Д. Юркевича
Автор: Гаврилов Игорь Борисович, Иванов Павел Константинович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философско-педагогической антропологии одного из крупнейших представителей киевской школы духовно-академической философии П. Д. Юркевича. Показано, что Юркевич позиционировал педагогику в качестве практической философии, призванной указать пути содействия образованию и раскрытию в человеке нравственно-этического начала. Отталкиваясь от православного учения об аскетике, он трактовал термин «вос-питание» в смысле напитания тела духом, одухотворения. На основе ранее разработанных им «метафизики сердца» и «метафизики любви» ученый создал своего рода «педагогику любящего сердца», направленную на формирование гармонично развитой личности. С помощью глубокого анализа феномена сердца в своей философско-педагогической антропологии Юркевич возвысил педагогическое знание от частных вопросов до уровня целостного миросозерцания. В современных условиях развития информационного общества особого внимания заслуживает тезис Юркевича о том, что получаемая человеком информация оказывает прямое влияние на его волю и характер, почему ученику необходимо сообщать знания только о том, что достойно знания. По мнению авторов статьи, обращение к наследию выдающегося философа может помочь в процессе становления в России национальной системы образования.
П. д. юркевич, философская антропология, педагогическая антропология, духовно-академическая философия, русская религиозная философия, киевская школа духовноакадемической философии, образование, обучение, воспитание,
Короткий адрес: https://sciup.org/140293638
IDR: 140293638 | УДК: 1(091)(470):37.01
Текст научной статьи К характеристике философско-педагогической антропологии П. Д. Юркевича
Pavel Konstantinovich Ivanov
Master of Theology, Lecturer at the Department of Theology and Postgraduate Student at St. Petersburg Theological Academy.
В начале XXI в., после десятилетий забвения, труды выдающегося отечественного философа, богослова и педагога, ординарного профессора, декана историкофилологического факультета Московского университета Памфила Даниловича Юркевича (1826–1874) стали привлекать внимание исследователей. Было защищено несколько диссертаций, опубликован ряд статей, рассматривающих, в частности, философско-педагогические и психолого-педагогические воззрения мыслителя. Несмотря на это, до сих пор П. Д. Юркевич известен скорее как крупный представитель духовно-академической философии и мало кто знает, что он был не менее крупным педагогом — одним из родоначальников отечественной философско-педагогической антропологии.
Среди научных работ по рассматриваемой тематике следует отметить: диссертации С. А. Зайцевой [Зайцева, 2001], Т. А. Петруниной [Петрунина, 2004], В. Ю. Пинчук [Пинчук, 2004], Е. А. Плеханова [Плеханов, 2004], М. В. Федоровой [Федорова, 2004], В. Н. Бабиной [Бабина, 2005], Н. Л. Полторацкой [Полторацкая, 2006], В. К. Пичугиной [Пичугина, 2009б] и М. А. Шаровой [Шарова, 2010]; статьи В. И. Ильченко [Ильченко, 2007], Л.И. Сорочик [Сорочик, 2008], В.К. Пичугиной [Пичугина, 2009a], Н.М. Брун-чуковой [Брунчукова, 2011], Л. А. Грицай [Грицай, 2011], Б. В. Емельянова [Емельянов, 2011], С.В. Бобрышова [Бобрышов, 2011; Бобрышов, 2015], Т.А. Муравицкой [Мура-вицкая, 2012], М. И. Макарова [Макаров, 2012; Макаров, 2014], И. В. Гребешева [Гре-бешев, 2015], М. А. Шаровой [Шарова, 2015; Шарова, 2017a; Шарова, 2017б; Шарова, 2017в], Е.Н. Никулиной [Никулина, 2017], Е.В. Антиповой [Антипова, 2019], С.А. Калугиной [Калугина, 2019], А.П. Матвеева [Матвеев, 2019], О.А. Сокирко и Е.Н. Коноваловой [Сокирко, Коновалова, 2019], А.В. Сухоруких [Сухоруких, 2019], Е.А. Цветкова [Цветков, 2019], Н. Л. Полторацкой [Полторацкая, 2020]. Кроме того, частично в разных контекстах философско-педагогическая антропология Юркевича затрагивается в монографиях Е. А. Плеханова [Плеханов, 2002], Б. В. Емельянова [Емельянов, 2014] и С. В. Антонова [Антонов, 2020], а также в статьях А. Т. Павлова [Павлов, 2007], И. Б. Гаврилова и С. В. Антонова [Гаврилов, Антонов, 2019; Гаврилов, Антонов, 2020] и И. Б. Гаврилова и П. К. Иванова [Гаврилов, Иванов, 2021].
В свою эпоху распространения материалистических идей и негативного отношения к идеалистической философии П. Д. Юркевич, по свидетельству современников, на широком общественном уровне услышан не был: «Его философские идеи не создавали в обществе никаких серьезных настроений… Юркевич был слишком высок и слишком серьезен для современного ему общества» [Волынский, 1896, 316–317]. Причину перехода ученого к философско-педагогической проблематике обозначил еще один из первых его биографов и исследователей творчества, земляк, свящ. Александр Ходзицкий в статье, приуроченной к 40-летию со дня кончины Юркевича: «Если общество не способно… воспринимать философскую проповедь идеализма, то остается заняться воспитанием этой способности в грядущих поколениях» [Ход-зицкий, 1914, 837-838]. Разработкой теоретических и практических проблем педагогики и психологии мыслитель занимался в третий, последний период своей научной деятельности, в 1864-1872 гг. [Зайцева, 2001, 18]. В частности, эти вопросы рассматриваются в трудах «Чтения о воспитании» (1865), «Курс общей педагогики с приложениями» (1869) — «наиболее замечательной книге по педагогике на русском языке того времени» [Радлов, 1904, 420], а также в ряде статей1.
Если философия, по мысли Юркевича, изучает человека с точки зрения его сути и предназначения, то педагогика должна объяснять, как именно в результате воспитания можно содействовать становлению и раскрытию в нем нравственноэтического начала [Плеханов, 2002, 206]. С помощью такого подхода Юркевич позиционировал педагогику в качестве практической философии [Плеханов, 2004, 35] и, наряду с его известными современниками Н. И. Пироговым и К. Д. Ушинским, стал родоначальником гуманистического направления философско-педагогической антропологии. Названные ученые XIX в. заложили основы специального исследования человека как воспитуемого с целью привести образовательный процесс в соответствие с человеческой природой [Пичугина, 2009a, 12].
Источниками педагогической науки Юркевич считал антропологию, основанную на Божественном Откровении и данных психологии, накопленный практический педагогический опыт человечества и научные исследования педагогов-ученых (Юркевич, 1869, 41-42). Следуя учению отцов Православной Церкви2, мыслитель был сторонником трихотомической концепции устройства человека, выделяя в нем тело, душу и дух. Согласно данной концепции, дух, будучи во главе всего, должен руководить душой, а через нее и телом. Он есть непосредственный орган богообщения, проявляющийся в религиозной вере, нравственности, устремленности к Истине, Добру и Красоте. Именно дух обуслoвливает уникальность человеческой личности и ее бессмертие [Петрунина, 2004, 19–20], тогда как тело призвано сделаться его орудием посредством воспитания. Очевидно, Юркевич понимал «воспитание» в его исконном смысле: «вос-питание» — напитание тела духом, одухотворение [Сорочик, 2008, 58].
В своем фундаментальном «Курсе общей педагогики» (1869) разработанную им ранее и концептуально оформленную «метафизику сердца» ученый перевел в плоскость педагогической теории и практики, так что методологической основой его философско-педагогической антропологии стала идея кордоцентризма [Ильченко, 2007, 94–95]. Суть ее состоит в том, что центр человеческой личности находится в сердце, где и рождается любовь, без которой не может быть ни веры, ни воспитания, ни истинной внутренней жизни. Поэтому для успеха педагогического процесса Юркевич призывает «переместиться в сердце воспитанника… Без этого искусства вечно останется неисполнимою христианская заповедь любить ближнего как самого себя» (Мк 12:31) (Юркевич, 1869, 67). Благодаря своей способности подвергаться воспитательному воздействию сердце — как духовный центр человека — способно улучшаться [Шарова, 2017б, 58]. В мысли Юркевича любовь предстает этико-теологической категорией — высшим нравственным чувством, тесно связанным с подвигом жертвенности и позволяющим человеку преодолеть свою злую эгоистическую «самость». Таким образом, в процессе воспитания первостепенное значение должно уделяться развитию в ребенке жертвенной любви, которая культивирует в нем человечность [Сорочик, 2008, 59–60]. Воспитанный так человек «уничтожает резкое расстояние между собою и своими ближними… делается способным жертвовать, прощать и покрывать чужие слабости любовию во имя Христово™ вносить мир и единство в сердца™ людей» (Юркевич, 1990a, 356–357).
Философско-педагогическая концепция мыслителя представляет собой стройную и продуманную систему, включающую определенные цель, факторы, принципы, содержание и методы воспитания. Цель процесса воспитания, согласно Юркевичу, совпадает с целью жизни людей на земле и заключается в содействии им на пути достижения высшего совершенства, идеалом которого выступает Сам Бог (Юркевич, 1869, 9, 21). Кроме того, воспитание призвано способствовать исполнению человеком своего долга в Церкви, семье и государстве, а также его частного призвания, что будет иметь своим результатом становление нравственно-доблестного характера. Конечным плодом этого процесса должна быть «доброта сердца» — разумный и добрый человек, т. е. личность, имеющая представление о добре, желающая добра и могущая его совершать (Юркевич, 1865, 12–13, 30).
Постепенное восхождение человека к духовному совершенству, в полном соответствии с православным аскетическим учением, Юркевич видел практическим продвижением по лествице добродетелей [Сухоруких, 2019, 18]. Оно «не только обучает воспитанника тому, каким он должен быть, но и делает его таковым», выступая силой,
«совершающей ломку, перестройку, образование и преобразование во внутренней жизни воспитанника» (Юркевич, 1865, 199). Основанием самой возможности таких перемен является тот факт, что человеческий дух «есть существо воспитывающееся» (Юркевич, 1869, 42). Поэтому и необходимо воспитывать в детях духовность, а «моральная свобода — этот существеннейший признак богоподобия — составляет центр человеческой личности» (Юркевич, 1869, 195). Поскольку воспитание подразумевает требования и ограничения, в этом процессе важно создание пространства свободы индивидуального развития, при том что нравственная свобода приобретается только собственными усилиями путем самопринуждения [Шарова, 2015, 154]. Мыслитель отмечает, что духовной сфере человека присуща уникальность и эта глубина внутренней сердечной жизни не может быть измерена и описана научными средствами [Муравицкая, 2012, 31]. Истинной воспитательной системой, согласно Юркевичу, является та, которая способна воспламенить в сердце ребенка любовь ко всему святому и Божественному, понуждающую его забыть о себе ради служения Правде и Добру (Юркевич, 1865, 10).
Следуя каппадокийскому богословию, Юркевич выделяет в человеке существо, или природу, к которой относит склонности и страсти, и лицо, или ипостась. Именно на лицо воспитанника должно быть направлено «нравственное влияние… помогая ему управлять названным существом» (Юркевич, 1990, 165). Такая парадигма позволяет педагогу понять нравственные искания ученика и помочь ему в решении его нравственных проблем [Брунчукова, 2011, 19]. С другой стороны, мыслитель высоко оценивал значение «общей разумности», вследствие чего полагал, что частные интересы целесообразно подчинять общим целям и общественные формы воспитания должны находиться в приоритете над личностным началом [Шарова, 2017в, 16].
Юркевич обозначил четыре главных взаимосвязанных фактора, т.е. среды воспитания, «формы общего духа или общей воли», осуществляющих педагогический процесс: семья, общество, государство и Церковь. В его концепции семья выступает первой, естественной и основополагающей средой, которая научает ребенка элементарным правилам поведения, причем особая роль здесь отводится матери. Далее, в обществе, человек постигает нормы социальных отношений. Роль государства состоит в подготовке индивида к служению обществу и в исправлении воспитательных ошибок семьи. Наконец, воздействие Церкви, начинающееся почти одновременно с семейным, должно быть главным фактором воспитания, представляющим собой «высший закон и высшее требование» (Юркевич, 1869, 200–212).
Остановимся подробнее на роли и особенностях семейного воспитания в системе Юркевича. Так, мыслитель полагал, что супруги-христиане, осознавая греховную поврежденность человеческой природы, должны стремиться к тому, чтобы их ребенок появился на свет «не от плоти и крови, а от Господа». Исходя из этого, новорожденный будет восприниматься даром Божиим и, воспитывая его, родители призваны выполнять служение, порученное им свыше (Юркевич, 1869, 202). Таковое служение, по сути, направлено на пользу всего человечества и непрерывную передачу культурно-исторического опыта поколений [Шарова, 2017в, 16]. Поэтому супруги должны делать все возможное, чтобы богообразная природа их ребенка в процессе воспитания не искажалась, а, напротив, раскрывалась, т. е. способствовать достижению чадом высшего совершенства. Юркевич особо выделяет значение семейной атмосферы: в хорошей семье ребенок наблюдает и усваивает образы доброй и любящей матери и спокойного, деятельного и справедливого отца, видит семейную жизнь, основанную на любви, взаимном уважении и ответственности. Он впитывает примеры послушания определенным лицам и порядкам и таким образом познает систему нравственных отношений, требующую от человека подавления собственных дурных наклонностей (Юркевич, 1869, 200). Взаимно дополняющие друг друга нравственные силы родителей определяют образ их брака и нравственный дух семьи, под влиянием которого ребенок возрастает в нравственную жизнь с самого рождения [Антипова, 2019, 226]. Положительным результатом воспитания Юркевич называет свободное следование детьми таким руководящим началам, как любовь, готовность к самопожертвованию и стремление к самосовершенствованию. Исходя отсюда, для успеха педагогического процесса в учебных заведениях, по мысли ученого, должна быть создана светлая и радостная атмосфера взаимоотношений, насколько возможно подобная семейной.
По содержанию Юркевич разделял воспитание на нравственное, нравственноэстетическое, нравственно-религиозное и физическое, причем каждое из них должно иметь интеллектуальную составляющую. Стержневым он считал нравственное воспитание, а наполнение всех остальных рассматривал на основе принципа нравственного возрастания личности [Зайцева, 2001, 15–16].
Значительное место в концепции мыслителя занимают методы воспитания как сложного и противоречивого процесса субъект-субъектного взаимодействия воспитанника и педагога [Плеханов, 2002, 219]. Важнейшую роль здесь играет авторитет последнего, влияющего на ученика личным примером и служащего нравственным образцом. Согласно Юркевичу, следующему христианским апологетам Древней Церкви [Климент Александрийский, 2018, 99–101], педагогические методы должны основываться на Божественном Откровении, т. е. на том, как Бог научил поступать человека. Педагогу необходимо как бы войти в сердце воспитуемого и увидеть в нем любовь, которую нужно будет взрастить [Антонов, 2020, 70].
Юркевич указывает три различных вида воздействия воспитателя: надзор (управление), обучение и собственно воспитание. Под первым он понимал пресечение действий, которые препятствуют учебному и воспитательному процессу и могут повредить самому ребенку. Обучение же состоит в деятельности, направленной на расширение умственного кругозора воспитанника при одновременном сосредоточении на прочном основании — религиозно-нравственных убеждениях. В отличие от обучения, воспитание, в свою очередь, нацелено не только на разум, но и на волю ребенка, вызывая приятные или неприятные ощущения и таким образом формируя добрые и устраняя дурные наклонности. Стоит подчеркнуть, что воспитание, по Юркевичу, не есть некая дрессировка: сообщая навыки, оно связывает их с убеждениями, почему они должны переходить в самостоятельный характер (Юркевич, 1865, 14). Для успешного протекания этого процесса необходима дисциплина, позволяющая воле ребенка, поднимаясь над влияниями среды, восходить до разума и обретать свободу своей личности от впечатлений и желаний. Весьма актуальной является мысль ученого о том, что дисциплинарные правила призваны способствовать поддержанию хорошего настроения и бодрого духа детей, чему, кроме прочего, помогает предоставление им некоторой свободы. Основным методом воспитательного воздействия Юркевич считал требование, причем применяться оно должно не только непосредственно педагогом, но и во всех воспитательных средах (семье, обществе, государстве, Церкви). Таким образом, мыслитель был сторонником создания единой программы воспитания человека [Зайцева, 2001, 16].
Из частных воспитательных мер Юркевич называет надзор, наставление, напоминание, предостережение, увещание, совет, просьбу [Цветков, 2019, 34]. С воспитательными мерами он связывает побуждения (мотивы) выполнения требований, к котором относит похвалу, порицание, обещание, угрозу, строгость, наказание. Наиболее действенны, по его мнению, первые два, причем порицание, частое использование которого ведет к натянутости и даже враждебности отношений воспитанника и педагога, должно применяться крайне редко. Все перечисленные меры сопряжены с возникающими в процессе их использования чувствами чести, стыда и страха, однако последнее, являясь отрицательным результатом воспитания, должно возникать как можно реже. Телесные наказания мыслитель находил бесполезными и даже вредными, хотя их использование оставлял на усмотрение педагога, подчеркивая, что любое наказание призвано оказывать позитивное воздействие не только на заслужившего его, но и на сверстников. Такой результат возможен лишь в том случае, если педагог любит детей и справедлив к ним, а они это понимают [Зайцева, 2001, 16–17].
Особо в своих педагогических размышлениях Юркевич отмечает понятие совести, выделяя «внешнюю совесть», представляющую собой честь (Юркевич, 1869, 164) — нравственные поступки, направленные из глубины сердца во внешний мир, и «внутреннюю совесть» — любовь к Богу и ближнему [Сорочик, 2008, 59]. Закономерно, что совесть «внутренняя» служит нравственной основой для проявления совести «внешней».
Юркевич разработал учение о психике как сфере идеального, возникающей в результате познания духом окружающего мира [Пинчук, 2004, 18]. В согласии с древнейшими философскими представлениями, а также с более поздним христианским учением о душе он выделяет три основных душевных способности — познание, чувствование и желание (соответствуют таким категориям, как разум, чувства и воля). Они отвечают троякому призванию человека — к Истине, Красоте и Добру [Муравицкая, 2012, 31].
По мысли ученого, разум создает образы предметов внутри человека, производит некое знание, самого его не затрагивающее. Чувства же, напротив, касаются его, будучи приятными или неприятными. Воля, в свой черед, проявляется в стремлении производить перемену внутри человека или вовне. Исходя из этого, в своей философско-педагогической концепции Юркевич сугубо подчеркивает необходимость равномерного и многостороннего развития воспитанников. Ум без восприимчивого сердца и сильного характера, нежное сердце и безволие или волевой нрав в сочетании с неразумием и проч. — все это, по мысли профессора, печальные следствия одностороннего и неравномерного развития душевных способностей (Юркевич, 1865, 32–33). Из приведенных описаний можно заметить, что они соответствуют православному аскетическому учению о том, что именно духовный ум (νοῦς) является высшей силой, «инстанцией» человеческого естества, дающей «бесстрастное», не затрагивающее человека знание и в силу этого способной контролировать движения сердца. С другой стороны, философ выступает против переноса духовной жизни «из глубины сердца в светлую область спокойного, бесстрастного и безучастного разума» (Юркевич, 2004, 181), поскольку это может привести к уравниванию таких понятий, как разумность и нравственность, и отсюда — к «разумному» оправданию зла.
Юркевич полагал, что обучение должно раскрывать не только практическую значимость знания, но и его духовную ценность, развивать способность к усвоению «идеальной стороны жизни», что свойственно религии. Поэтому, по его убеждению, не всегда нужно обучение религиозности, но в любом случае необходима религиозность обучения. Воплощение этого в системе образования возможно лишь тогда, когда жизнь школы будет основана на началах соборности, формирующей радостное нравственное сообщество детей и педагогов [Плеханов, 2002, 216–217]. Данный путь, при его успешной реализации, может содействовать возвращению к истинной иерархии ценностей в образовательном процессе и становлению многосторонне развитых личностей [Полторацкая, 2020, 75].
Огромное значение мыслитель придавал воле, производящей своеобразный синтез знаний и чувств, подчеркивая, что человек может желать лишь того, о чем знает и что ему представляется приятным. Таким образом, воля выступает средоточием, сердцевиной человеческой личности, а ее воспитание — формирование нравственно-доблестного характера — является важнейшей задачей педагога (Юркевич, 1865, 33). Это тем более понятно, поскольку осуществление добрых дел и формирование добрых навыков (добродетелей) требует не только понимания и желания, но и понуждения воли ребенка и отрока со стороны педагога, а затем — самопонужде-ния и самовоспитания человека на протяжении всей жизни [Шарова, 2017в, 16]. Развитая воля является признаком состоявшегося характера [Зайцева, 2001, 11]: человек с характером четко осознает свои возможности, желания и обязанности.
В наше время формирования информационного общества особого внимания заслуживает тезис Юркевича о том, что сообщаемая ребенку информация вызывает у него определенные чувствования и оказывает прямое влияние на его волю и характер (Юркевич, 1865, 175). Например, неясные, неопределенные понятия и данные потенциально делают воспитанника нерешительным и слабохарактерным. Учитель, заостряющий внимание на негативных явлениях в мире, подрывает в ученике нравственное мужество и препятствует развитию в нем гражданина, способного на подвиг и самопожертвование для общего блага. Воздействие получаемой ребенком информации на чистоту, благородство и силу его характера бесспорно, поскольку знание разума, поступая в сердце, не остается абстрактным понятием, а превращается в душевное состояние [Сокирко, Коновалова, 2019, 336–337]. Из показанной взаимосвязи Юркевич выводит важнейшее педагогическое правило: ученику нужно сообщать знания только о том, что достойно знания (Юркевич, 1865, 175–177).
Однако те или иные предметы и явления могут влиять на воспитанника не только в виде информации, но и в качестве образов, первоначально рождающих чувства, почему ученый уделяет не меньшее внимание и воспитанию сердца ребенка [Емельянов, 2011, 162]. Вообще, он выделяет три вида познания: исследующее разнообразие явлений — опытное познание, исследующее законы явлений — умственное познание, и постигающее красоту и величие явлений — познание эстетическое. По мнению Юркевича, образование, лишенное эстетической составляющей, не достигает своей главной цели. В созерцании красоты природы, а также величественных явлений и фактов истории человечества, пишет он, знание и любовь, ум и сердце соединяются. В этом и состоит нравственно воспитывающее значение прекрасного: человек становится лучше, когда он видит лучшее (Юркевич, 1865, 198–201). Таким образом, Юркевич настаивает на необходимости в процессе обучения и воспитания баланса разума и сердца — главенства разума в обучении и сердца в воспитании [Матвеев, 2019, 111–112].
Итак, развитие познавательных способностей человека, наиболее подробно рассмотренное П. Д. Юркевичем, не являясь основной целью воспитания, содействует формированию эмоциональных и волевых способностей в их целостности. Можно сказать, что на основе ранее разработанных им концепций «метафизики сердца» и «метафизики любви» ученый создал своего рода «педагогику любящего сердца», направленную на взращивание целостной и гармоничной личности. Он убедительно показал, что феномен сердца отражает неразрывную связь всех сфер душевной жизни в деле обучения и воспитания. Благодаря творческому развитию своего учения, с помощью феномена сердца в педагогическом преломлении, мыслитель возвысил педагогическое знание от частных вопросов до уровня целостного миросозерцания. Также следует отметить, что Юркевич одним из первых в отечественной философско-педагогической мысли выделил в процессе воспитания в качестве главного нравственное направление, представив его как стержень, объединяющий все многообразие педагогических наук. Можно подытожить, что философско-педагогическая антропология мыслителя имеет своей целью духовное становление человека в пространстве священной культуры Православной Церкви.
Рассмотренная концепция П. Д. Юркевича приобретает особое значение в ситуации мировоззренческого кризиса современного российского общества и отечественного образования. Обращение к наследию выдающегося философа может помочь в процессе становления в России национальной системы образования.
Список литературы К характеристике философско-педагогической антропологии П. Д. Юркевича
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. М.: Российское Библейское общество, 2013. 2047 с.
- Климент Александрийский (2018) — Климент Александрийский. Педагог. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2018. 344 с.
- Феофан Затворник (2008) — Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Минск: Изд-во Свято-Елисаветинского монастыря, 2008. 288 с.
- Юркевич (1869) — Юркевич П.Д. Курс общей педагогики. С приложениями. М.: Тип. Грачева и Ко, 1869. 404 с.
- Юркевич (1990a) — Юркевич П. Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // Юркевич П.Д. Философские произведения. М.: Правда, 1990. С. 351-357.
- Юркевич (1990б) — Юркевич П.Д. Непосредственное нравственное влияние // Антология педагогической мысли России второй половины XIX — начала XX в. / Сост. П. А. Лебедев. М.: Педагогика, 1990. С. 165-177.
- Юркевич (2004) — Юркевич П.Д. О воспитании / Сост. А.П. Фурсов. М.: Школьная пресса, 2004. 187 с.
- Юркевич (1865) — Юркевич П. Д. Чтения о воспитании. М.: Тип. Каткова и Ко, 1865. 272 с.
- Антипова (2019) — Антипова Е.В. К вопросу об основных факторах становления личности ребенка в педагогическом наследии П. Д. Юркевича // Романовские чтения — 13: Сб. ст. Международной науч. конф., посвящ. 105-летию МГУ им. А. А. Кулешова / Под ред. А. С. Мельниковой. Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2019. С. 225-226.
- Антонов (2020) — Антонов С.В. Вера как гносеологический императив по учению Памфила Даниловича Юркевича. СПб.: Покров, 2020. 80 с.
- Бабина (2005) — Бабина В.Н. Метафизика сердца в русской философии второй половины XIX века: П. Д. Юркевич: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2005. 26 с.
- Бобрышов (2011) — Бобрышов С.В. Требования к личностным и профессиональным качествам учителя в первых отечественных учебных пособиях по педагогике // Историко-педагогический журнал. 2011. № 1. С. 50-59.
- Бобрышов (2015) — Бобрышов С.В. Нравственность в представлениях авторов отечественных учебных пособий по педагогике второй половины XIX века // Историко-педагогический журнал. 2015. № 3. С. 72-87.
- Брунчукова (2011) — Брунчукова Н. М. П. Д. Юркевич о роли философии в нравственном воспитании личности // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. 2. № 2. С. 17-21.
- Волынский (1896) — Волынский А. Л. Русские критики. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1896. 827 с.
- Гаврилов, Антонов (2019) — ГавриловИ.Б., Антонов С.В. Памфил Данилович Юркевич: защита философии и полемика с нигилизмом // Христианское чтение. 2019. №6. С. 178-189. DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10116.
- Гаврилов, Антонов (2020) — Гаврилов И.Б., Антонов С. В. Из истории антинигилистической полемики 1860-х гг. // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 110-126. DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10006.
- Гаврилов, Иванов (2021) — Гаврилов И. Б., Иванов П. К. К характеристике «метафизики сердца» П.Д. Юркевича // Христианское чтение. 2021. №3. С.218-226. DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_218.
- Гребешев (2015) — ГребешевИ.В. Становление философской педагогики и философии образования персоналистического типа в России в XIX в. URL: http://j-spacetime.com/ actual%20content/t8v1/t8v1_PDF/2227-9490e-aprovr_e-ast8-1.2015.22-Гребешев.pdf (дата обращения: 27.01.2022).
- Грицай (2011) — Грицай Л.А. Смысл семьи и семейного воспитания в трудах русских мыслителей второй половины XIX — начала XX в. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 3. С. 82-88.
- Емельянов (2011) — Емельянов Б.В. Памфил Юркевич: Постулаты педагогической антропологии // Известия Урал. гос. ун-та. Сер. 3: Общественные науки. 2011. №1 (88). С. 159-167.
- Емельянов (2014) — Емельянов Б.В. Русская философия как человековедение: избранное. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 331 с.
- Зайцева (2001) — Зайцева С.А. Психолого-педагогическое наследие П.Д. Юркевича: автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2001. 21 с.
- Ильченко (2007) — Ильченко В.И. Памфил Юркевич — подвижник духовного единения православной Руси // Педагогика. 2003. № 7. С. 93-97.
- Калугина (2019) — Калугина С. А. Проблемы методики личностно-центрированного обучения в философии П. Д. Юркевича // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы VI Межвузовской научно-практ. конф. «100-летию Военной академии связи посвящается». 18 апр. 2019. СПб.: Изд-во ВВМ, 2019. С. 276-281.
- Макаров (2012) — Макаров М.И. Провиденциалистская идея воспитания личности в отечественной педагогике второй половины XIX — первой половины XX вв. // Вестник ТГПУ. 2012. № 2 (117). С. 27-31.
- Макаров (2014) — Макаров М.И. Категория «добродетельная жизнь» в педагогических нравоучительных трудах отечественных авторов духовных академий второй половины XIX века // Вестник СурГПУ. 2014. № 1 (28). С. 5-12.
- Матвеев (2019) — Матвеев А.П. Духовно-нравственный потенциал педагогики П. Д. Юркевича на уроках русского языка как иностранного в медицинском вузе // Семья и школа в духовно-нравственном воспитании детей: Материалы Всероссийской на-уч.-практ. конф. 02 окт. 2019. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2019. С. 110-114.
- Муравицкая (2012) — Муравицкая Т.А. Религиозно-философская антропология П. Д. Юркевича как основание педагогической концепции // Научный диалог. 2012. № 10. С. 19-33.
- Никулина (2017) — Никулина Е.Н. Представления о возрастной периодизации в российской педагогической мысли конца XVIII — середины XIX века: от А. Ф. Бестужева до свт. Феофана Затворника // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. 2017. Вып. 47. С. 77-92.
- Павлов (2007) — Павлов А.Т. П.Д. Юркевич в Московском университете // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2007. № 3. С. 97-108.
- Петрунина (2004) — Петрунина Т.А. Философско-антропологические основания российской педагогики XIX — начала XX в.: автореф. дис. ... докт. филос. наук. Екатеринбург, 2004. 35 с.
- Пинчук (2004) — ПинчукВ. Ю. Метафизическая психология в русском духовно-академическом теизме XIX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2004. 20 с.
- Пичугина (2009a) — Пичугина В. К. Антрополого-педагогические концепции в России второй половины XIX — начала XX в. // Известия ВГПУ. Сер.: Педагогические науки. 2009. № 1 (35). С. 10-14.
- Пичугина (2009b) — Пичугина В. К. Антрополого-педагогические концепции в России второй половины XIX — начала XX века: автореф. дис. . канд. пед. наук. Волгоград, 2009. 28 с.
- Плеханов (2002) — Плеханов Е. А. Философско-педагогическая антропология «нового богословия». Владимир: ВГПУ, 2002. 264 с.
- Плеханов (2004) — Плеханов Е.А. Становление и развитие религиозно-антропологической концепции образования в отечественной педагогике (вторая половина XIX — начало XX вв.): автореф. дис. ... докт. пед. наук. Елец, 2004. 46 с.
- Полторацкая (2006) — Полторацкая Н. Л Педагогическое сопровождение нравственного воспитания личности в научном наследии П. Д. Юркевича: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Смоленск, 2006. 19 с.
- Полторацкая (2020) — ПолторацкаяН.Л. П.Д. Юркевич о роли православной духовности в деле воспитания // Теологический вестник Смоленской Православной Духовной Семинарии. 2020. № 6. С. 72-76.
- Радлов (1904) — Радлов Э.Л. Юркевич (Памфил Данилович) // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. XLI. СПб., 1904. С. 420.
- Сокирко, Коновалова (2019) — Сокирко O.A., Коновавлова Е.Н. Философия сердца Г. С. Сковороды и П. Д. Юркевича // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи — развитию науки и образования: Материалы VIII Международного науч. форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников: в 2 т. / Под общ. ред. Т. В. Золиной. Астрахань: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019. С. 333-337.
- Сорочик (2008) — Сорочик Л.И. Совесть и любовь как смыслообразующие ценности в философии Памфила Даниловича Юркевича // Гуманитарный вектор. 2008. № 2. С. 58-61.
- Сухоруких (2019) — Сухоруких А. В. Аксиология духовного становления в отечественной образовательной культуре // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2019. №4 (32). Т. 2. С. 13-22.
- Федорова (2004) — Федорова М. В. Сравнительный анализ философской антропологии П.Д. Юркевича и В.И. Несмелова: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Нижний Новгород, 2004. 29 с.
- Ходзицкий (1914) — Ходзицкий А., свящ. Профессор философии Памфил Данилович Юркевич (1826-1874гг.): очерк жизни, литературной деятельности и богословско-философского мировоззрения // Вера и разум. 1914. № 18. С. 803-830; № 20. С. 180-212; № 22. С. 558-580; № 24. С. 835-860.
- Цветков (2019) — Цветков Е.А. П.Д. Юркевич — основоположник отечественной систематической научной педагогики // Педагогика и психология образования. 2019. №4. С. 22-38. DOI: 10.31862/2500-297X-2019-4-22-38.
- Шарова (2010) — Шарова М.А. Философия образования в русской мысли второй половины XIX века (историко-философский анализ): автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2010. 26 с.
- Шарова (2015) — Шарова М.А. Влияние философии на становление психолого-педагогического знания в XIX веке (по работам С. С. Гогоцкого и П. Д. Юркевича) // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 7 (16). С. 152-154.
- Шарова (2017a) — Шарова М.А. К определению предмета теоретической психологии в философии П. Д. Юркевича // Гуманитарий Юга России. 2017. Т. 6. № 5. С. 109-118. DOI: 10.23683/2227-8656.2017.5.9.
- Шарова (2017б) — Шарова М.А. «Метафизика сердца» в контексте философской антропологии П. Д. Юркевича // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 2. № 1. С. 56-60.
- Шарова (2017в) — Шарова М.А. Философско-психологические взгляды П.Д. Юркевича (Анализ работ «Чтения о воспитании» и «Курс общей педагогики с приложениями») // Общество: философия, история, культура. 2017. №11. С.13-16. DOI: 10.24158/ fik.2017.11.2.