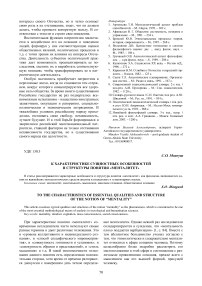К характеристике сущностных особенностей и структуры понятия "менталитет"
Автор: Монгуш Салбак Онер-Ооловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 14, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются характерные особенности и структура понятия «менталитет» как феномена, являющегося одним из важнейших методологических средств анализа в социальных и гуманитарных науках
Менталитет, массовое сознание, общественное сознание, ментальность, мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/148179368
IDR: 148179368 | УДК: 130.3
Текст обзорной статьи К характеристике сущностных особенностей и структуры понятия "менталитет"
При характеристике понятия «менталитет» современные исследователи часто используют самые разные термины и дают различные толкования. Это и «уровень коллективного и индивидуального сознания», и «способ специфического мировосприятия», и «совокупность готовности и установок», и «совокупность образов и представлений», и «стиль мышления» и т.д. В такой многозначности толкования данного понятия есть определенная положительная сторона, хотя время от времени разгораются дискуссии с намерением дать четкое определе- ние менталитета. Однако всякий раз исследователи солидаризируются в суждении, что «ментальность плохо поддается вербализации» [1, c. 84]. Вместе с тем абсолютное большинство ученых согласно с тем, что этимологически и содержательно менталитет относится к сфере сознания человека. Поэтому целесообразно более подробно рассмотреть его местоположение в этой сфере и соотношение с различными проявлениями сознания, прежде всего с мышлением как его высшей формой, присущей человеку.
Итак, рассмотрим соотношение понятий «мышление» и «менталитет». Оба они, как было сказано выше, относятся к сфере сознания, к области так называемой духовной жизни. Признавая этот факт, исследователи вместе с тем отмечают, что содержание и функции мышления и менталитета не идентичны, существенно различаются. Так, Л.Н. Пушкарев пишет: «...мышление – это познание мира, а менталитет – это осмысление мира, его оценка, характеристика. Это склад, манера мышления, своеобразие мышления. Это мышление не понятиями, а образами. Это эмоциональные и ценностные ориентации, коллективная психология, влияющая на общественное поведение масс» [2, с. 82].
Среди ученых немного встречается исследователей, которые прямо и безоговорочно отождествляют понятия «менталитет» и «мышление» как феномены сознания: слишком очевидны различия в их назначении и функциях. Однако в литературе известны концепции, в которых названные явления отождествляются косвенно, обозначаясь при этом одним и тем же термином, в данном случае – «ментальность». Это, в частности, имело место в работах Леви-Брюля, французского ученого, одного из выдающихся исследователей первобытности, кстати, впервые введшего в научный оборот термин «mentalite» (ментальность). Строго говоря, Леви-Брюль фактически не отождествлял понятия «ментальность» и «мышление» в их узком понимании, а трактовал мышление людей эпохи первобытности (например, в труде «Первобытное мышление») [3] не в его прямом понимании (т.е. как способность к познавательной деятельности), а значительно шире – как сложную совокупность эмоционально окрашенных верований и представлений людей первобытности об окружающем мире и самих себе. Подобное «мышление» (точнее: духовную жизнь) людей первобытной эпохи он и обозначал термином mentalite (ментальность).
Известно, что Леви-Брюль в своих работах исследовал менталитет людей первобытности как важный компонент (своеобразное ядро) первобытной культуры, ее доминантой. В дальнейшем в связи с более детальным изучением различных аспектов человеческого мышления и сознания термин (и понятие) «ментальность» продолжал использоваться в возникающих новых направлениях науки. Однако его применение в новых областях знания показало его слишком большую широту, отсюда – расплывчатость в содержании [4]. С развитием логики, лингвистики, культурологии и других гуманитарных наук термин ментальность неизменно оставался в их понятийно-категориальном словаре, но при этом в каждом из них получал специфическое толкование. Это, несомненно, вело к расширению смыслового содержания данного понятия, к его многозначности, а в целом к выявлению его новых сущностных особенностей.
Продолжим рассмотрение попыток ученых вы- яснить особенности менталитета путем его сближения (и отождествления) с другими понятиями, отражающими разные аспекты сознания. Прежде всего отметим попытки отождествления понятия «менталитет» с понятием «массовое сознание». В отечественной науке исследование особенностей массового сознания и введение его в научный оборот как понятия было осуществлено в основном философами и социологами Г.Г. Дилигенским, Б.А. Грушиным, А.К. Уледовым [5]. Они же, в частности Б.А. Грушин, отмечали, что некоторые элементы массового сознания были сформированы целенаправленно. Это явилось одной из причин, осложнивших позицию исследователей, которые безоговорочно относили менталитет к массовому сознанию, поскольку менталитет, как правило, формируется стихийно и не является искусственно сформированным элементом сознания. В общем итоге в современной отечественной науке утвердилось представление о том, что менталитет и массовое сознание – это не соподчиненные (тем более не тождественные) феномены сознания, а лишь сопряженные, т.е. характеризующиеся некоторыми сходными свойствами (неосознанностью, стихийностью, известной бессистемностью) понятия.
В литературе также делались попытки отождествления менталитета с общественным сознанием в целом или с одним из его структурных уровней, чаще всего с общественной психологией. Но при этом писавшие об этом авторы обычно в своих толкованиях часто сползали на «идеологический уровень» трактовки менталитета. Этот момент был подмечен известными исследователями культуры и образования А.Я. Гуревичем и Б.С. Гершунским. Так, первый из них отмечал: «Когда мы говорим о ментальности, то имеем в виду прежде всего не какие-то вполне осознанные и более или менее четко формулируемые идеи и принципы, а то конкретное наполнение, которое в них вкладывается – не «план выражения», а «план содержания» [6, с. 454]. По мнению другого упомянутого исследователя, Б.С. Гершунского, «взаимосвязь менталитета и идеологии не так проста, как представляется на первый взгляд, но в любом случае – это именно взаимосвязь и взаимовлияние» [7, с. 45]. С приведенными суждениями трудно не согласиться.
В результате анализа и сопоставления понятий «менталитет» и «общественное сознание» И.Г. Дубов пришел к выводу, что понятие «менталитет» не отражает действительность, а описывает специфику этого отражения, обусловленную особенностями реагирования на внешний мир больших общностей людей – этносов, наций, классов. Таким образом, менталитет не идентичен общественному сознанию, а лишь характеризует его специфику относительно сознания других групп людей [8, с. 11].
Не вдаваясь в обсуждение других попыток выяснения сущности менталитета путем его отождествления с уже известными философскими и социально-философскими понятиями («мышление»,
«массовое сознание», «общественное сознание», «общественная психология», «идеология»), логично прийти к выводу, что такой путь анализа проблемы в целом не продуктивен. А главное, он игнорирует особенности менталитета как относительно самостоятельного феномена, существующего и функционирующего в сфере духовной жизни общества, его духовной культуры.
Тем не менее необходимо рассмотреть еще один момент, касающийся понятийно-терминологической стороны дела. Речь идет о выяснении связи и соотношения понятий-терминов: «ментальность» и «менталитет». Выше кратко отмечалось, что это весьма близкие по основному смыслу понятия, а в языковом отношении – однокоренные (происходящие от одного и того же слова), тем не менее имеющие определенные различия в семантике и употреблении. Примечательно, что в зарубежной науке и литературе понятия «ментальность» и «менталитет» обычно используются как синонимы. Причины этого кроются прежде всего в особенностях большинства западноевропейских языков, лексика которых восходит либо к древнегреческому, либо к латинскому языку. Так, общепринято считать, что в западноевропейских языках слова «ментальность» и «менталитет» имеют общее происхождение от позднелатинского mentalites как произв. от лат. mens – ум, alis – другие. Уже поэтому в зарубежной литературе (прежде всего, англоамериканской) ввиду очевидной синонимичности данных слов-понятий практически никем не делались попытки их смыслового различения.
В отечественной же науке и литературе ситуация несколько иная. Если во многих индивидуальных и коллективных работах, даже в некоторых энциклопедиях и словарях, эти понятия тоже употребляются и трактуются как синонимы, то в некоторых аналогичных источниках они различаются. С чем это связано? Как уже отмечалось, возможно, что связано с определенными семантикограмматическими особенностями многих европейских и русского языка. Так, из лингвистики известно, что в европейских языках значение слова при изменении его местоположения в предложении обычно меняется, а форма его при этом остается неизменной. В русском же языке по законам словообразования огромное значение имеют так называемые служебные части слов (приставки, суффиксы, окончания). Так, изменение какой-либо служебной части слова всегда предопределяет другое его смысловое значение. Известно, в частности, что в русском языке слова, имеющие окончание ''ость'', обозначают, как правило, родовые (универсальные) качества и свойства, которые существуют, лишь воплощаясь в целом ряде конкретных, преходящих по времени существования феноменов (например: государственность – государство, авторитетность – авторитет, суверенность – суверенитет и т.д.).
Исходя из сказанного следует признать, что несомненно существуют различия и между словами- понятиями «ментальность» и «менталитет». Если первое понятие тоже выступает как родовое и обозначает наличие особых ментальных свойств у больших социальных образований – социумов, цивилизаций, формаций, то второе представляет собой интегральную характеристику общностей, социальных групп, пассионарных личностей. В целом же соотношение и различия понятий «ментальность» и «менталитет» в принципе такие же, как в приводившихся выше примерах (государственность – государство и др.).
Итак, как говорилось, ментальность представляет собой действительно широкое по содержанию понятие. Во всяком случае более широкое, чем понятие «менталитет». Поскольку отмеченная широта некоторых понятий обычно оборачивается их расплывчатостью, понятие «ментальность» вследствие такого недостатка было заменено другим, более узким и конкретным, обозначенным термином «менталитет». Однако в последующем утвердилось мнение о равнозначности, синонимичности названных понятий, что привело к паритетности их использования. Подобная ситуация характерна и для современного их применения в литературе.
Перейдем теперь к рассмотрению современного понимания сущности и структуры ментальности (менталитета) как феномена и понятия, являющегося одним из важнейших методологических средств анализа в социальных и гуманитарных науках. Из истории науки и философии известно, что представления о существовании ментальных особенностей у людей в разные исторические периоды и у разных человеческих общностей бытовали и варьировались в обществе начиная с древнейших времен. Но это были лишь разрозненные суждения наиболее наблюдательных и глубоких мыслителей – философов, ученых, крупных политиков. В качестве научного понятия, обозначенного термином «ментальность», данное новое слово-понятие, как уже отмечалось, было введено в научный оборот Леви-Брюлем. Как удачно найденное и весьма необходимое, это понятие в дальнейшем было подхвачено учеными, представителями различных направлений социально-гуманитарных наук (Р. Эмерсон, М. Пруст, М. Мосс, Ж. Лефевр и др.). В ходе возникновения и конституирования как самостоятельных социальных и гуманитарных наук, становления их специфического понятийно-терминологического аппарата наблюдалось утверждение в нем в составе общенаучных понятий и категорий широко распространившегося в обществознании понятия «ментальность (менталитет)». При этом в каждой из наук наблюдалось стремление соответствующих ученых дать ему специфическое толкование, что неизбежно привело к тому, что оно стало многозначным.
Попутно отметим, что многозначность понятия «менталитет» еще более усилилась вследствие того, что в литературе данный термин, образованный сначала Леви-Брюлем и его французскими последователями от французского слова mentalite, в дальнейшем стал чаще и больше трактоваться в его английском варианте, поскольку большинство исследователей стало придерживаться английского происхождения данного слова – mentality, восходящего к позднелатинскому mentalis (умственный).
Удачно найденный термин-понятие «ментальность», потребность в котором действительно назрела, после исследований Леви-Брюлем духовной жизни людей первобытности стал быстро утверждаться и в других гуманитарных науках. Так, в психологию его начали внедрять Ш. Блондель и А. Валлон, в этнографию – М. Мосс, Ж. Лефевр. Широкое методологическое и инструментальное применение понятия «ментальность» нашло в трудах французских историков школы «Анналов» и в исторической антропологии (Л. Февр, М. Блок, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Ф. Бродель и др.), где превратилось в центральную категорию исследования культуры. За пределами Франции понятие «ментальность» использовалось американским философом и социологом Р. Эмерсоном при рассмотрении некоторых метафизических и психологических проблем. В Европе же данное понятие использовалось в философских системах неокантианцев, в философии феноменализма, психоаналитических построениях Фрейда и его последователей. В современных российских теоретических исследованиях проблемы ментальности присутствуют и разрабатываются тоже в весьма широком диапазоне – в психологии (особенно этнической и исторической), культурологии, этнологии, политологии, лингвистике, социально-культурной антропологии, социальной философии и философии истории и др.
Но одно дело – использование и применение какого-либо понятия-термина в конкретных частнонаучных исследованиях, другое дело – разработка его теоретико-методологических оснований, в частности, выявление его сущности, структуры, назначения. Эти проблемы всегда представляли (составляют и теперь) прерогативу и задачи философии. Сказанное полностью относится к исследованию понятия «менталитет» (ментальность)». Понятие «менталитет», так или иначе исследуемое разными науками, в его современном виде весьма многозначно. И это вполне объяснимо. Задача философии, учитывая многозначность данного понятия, – вычленить и раскрыть сущностные особенности менталитета как сложного, многоаспектного объекта, тем самым осуществить рефлексию главной стороны изучаемого феномена – его специфические сущностные черты. Данная задача обычно реализуется посредством дефиниции понятия. В этом плане менталитет (или ментальность) представляет собой интегральную характеристику людей, живущих в конкретной культуре, с их особым способом восприятия мира, образом мыслей, иерархией жизненных ценностей, формами бытового и социального поведения [9, с. 10]. В более узком понимании менталитет выступает как глубинный пласт общественного сознания, представляющий совокупность механизмов психологических реакций людей на окружающую действительность и базовых представлений, характерных для разных социальных общностей [10, с. 190]. Базовыми признаками менталитета принято считать коллективность, невосприимчивость к деятельности индивидуального сознания, неосознанность, отсутствие систематизации, известную стихийность, целостность и устойчивость. Прежде всего, менталитет предстает реальностью коллективного порядка, поскольку выражает повседневный облик коллективного сознания определенных социокультурных общностей. Далее, менталитет является некой совокупностью неосознанных представлений людей, его глубинным, «скрытым» слоем, не зависимым от собственной жизни индивидов. Затем для менталитета характерна его устойчивость во времени, порожденная тем, что, являясь реальностью большой длительности, она остается неизменной по отношению к различным социальным образованиям. И последнее, менталитет обычно складывается исторически, не является результатом целенаправленной деятельности идеологов и мыслителей.
Хотя в своем формировании и эволюции менталитет основан на приоритете расово-этнических качеств общностей, естественно-географических условиях их существования, решающей основой и доминантой менталитета выступает культура. Поэтому ментальность в таком понимании выступает как способ адекватной смысловой форматизации существующей культуры. Исходя из сказанного менталитет можно определить как выражение на уровне культуры народа исторических судеб страны, как своего рода память народа о прошлом. Складываясь, формируясь и вырабатываясь исторически, ментальность в каждый конкретный отрезок истории представляет собой совокупность социально-культурных качеств и черт, выступающих как определенная целостность и проявляющаяся во всех сторонах жизнедеятельности человеческих общностей и составляющих их индивидов.
Таким образом, дальнейшая научная и философская разработка понятия «ментальность» продолжает быть актуальной задачей современного познания и общественной практики.