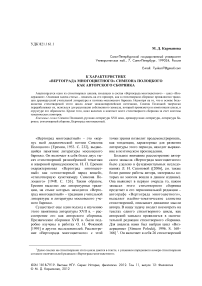К характеристике «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого как авторского сборника
Автор: Карманова Мария Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируется один из стихотворных циклов, входящих в состав «Вертограда многоцветного» – цикл «Воздержание». Основная задача статьи – показать на его примере, как в стихотворном сборнике проявляются традиции древнерусской учительной литературы и поэтика московского барокко. Несмотря на то, что в основе большинства стихотворений этого цикла лежат западноевропейские источники, Симеон Полоцкий творчески перерабатывает их, используя для реализации собственного замысла, который проявляется в композиции цикла, в структуре его образности. Кроме того, цикл включен в контекст всего стихотворного сборника за счет системы тематических повторов.
Симеон полоцкий, русская литература xvii века, древнерусская литература, литература барокко, стихотворный сборник, вертоград многоцветный
Короткий адрес: https://sciup.org/14737725
IDR: 14737725 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи К характеристике «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого как авторского сборника
«Вертоград многоцветный» – это «корпус всей дидактической поэзии Симеона Полоцкого» [Еремин, 1953. С. 232], выдающийся памятник литературы московского барокко. Он включает в себя более двух тысяч стихотворений разнообразной тематики и жанровой принадлежности. И. П. Еремин охарактеризовал «Вертоград многоцветный» как «стихотворный парад вещей», «стихотворную кунсткамеру Симеона Полоцкого» [1948. С. 126]. Таким образом, Еремин выделил две литературные традиции, на стыке которых находится «Вертоград многоцветный» – традиции учительной литературы и литературы московского ученого барокко.
Существует еще один подход к изучению этого памятника литературы XVII в. – рассмотрение его как авторского сборника. Прозаические сборники XVII в. были подробно изучены в работах О. Н. Фокиной [1995] и других исследователей. Рассмотрение «Вертограда многоцветного» с этой точки зрения позволит продемонстрировать, как тенденции, характерные для развития литературы этого периода, находят выражение в поэтическом произведении.
Большое внимание рассмотрению авторского замысла «Вертограда многоцветного» было уделено в фундаментальных исследованиях Л. И. Сазоновой ([2006], см. также более ранние работы автора, материалы которых во многом вошли в данное издание). Она выявляет в первую очередь то, каким замысел этого стихотворного сборника предстает в его первоначальной редакции – автографе «Вертограда многоцветного», выделяет идейно-тематические единства стихотворений, описывает движение мысли автора. В нашу задачу входит посмотреть на текстах одного стихотворного цикла, как авторский замысел проявляется в окончательной редакции стихотворного сборника. Для анализа нами был выбран цикл «Воздержание» [Simeon Polockij, 1996. S. 160– 166] 1. Он включает в себя 26 стихотворений и является, таким образом, одним из наиболее объемных циклов «Вертограда многоцветного» по числу входящих в него текстов. Как правило, «экзотические» образы и «остроумные» толкования, характерные для поэтики барокко, встречаются в тех стихотворениях «Вертограда многоцветного», которые не входят в состав циклов, в то время как для крупных идейно-тематических единств более характерна образность, близкая к традиции древнерусской учительной литературы 2. Тем не менее анализ данного стихотворного цикла, казалось бы, только учительного, позволяет обнаружить в его композиции и образности элементы новой барочной поэтики. Кроме того, именно на материале цикла стихотворений можно выявить взаимосвязи между текстами, обусловленные его композиционной структурой. В то же время цикл не является полностью обособленным – существуют и взаимосвязи, включающие его в контекст всего стихотворного сборника.
Творческая история «Вертограда многоцветного» и существующие редакции сборника были подробно изучены Л. И. Сазоновой [2006. С. 572–504]. Существует три рукописи произведения. Черновая рукопись (ГИМ. Синодальное собрание № 659) была написана Симеоном Полоцким в 1676– 1680 гг. В ее основе лежит тематический принцип организации стихотворений: «В автографе можно обнаружить крупные идейно-тематические и структурные единства, в пределах каждого из которых взаимодействуют несколько стихов. Они обнаруживают стихотворное повествование, объединяющее разнородные и разножанровые тексты» [Там же. С. 574]. Замысел автографа подразумевал последовательное рассмотрение ряда богословских вопросов, толкование библейских сюжетов и изложение адресованных читателю советов, касающихся морали, нравственности и бытового поведения.
В процессе работы над черновой рукописью Симеон Полоцкий принял решение изменить структуру сборника. Он составил алфавитный список («регистр») стихотворений, на основе которого переписчиками была создана промежуточная редакция (Синодальное собрание № 288), впоследствии ставшая основой для беловой рукописи (БАН П I A № 54 (31.7.3)). В процессе создания окончательной редакции «Вертограда многоцветного» принимал участие Сильвестр Медведев. Алфавитный «регистр» вошел в состав беловой рукописи в качестве оглавления.
Сазонова отмечает, что первоначальный замысел в процессе работы Симеона Полоцкого над текстом подвергся значительным изменениям. Однако «даже в перестроенной книге сохраняется сопряженность между самыми отдаленными стихами благодаря тому… что в каждом есть, однако, и общее» [Там же. С. 600].
Сам автор «Вертограда многоцветного» осознавал разнородность текстов, вошедших в его состав. В «Предисловии» к «Вертограду многоцветному» приводятся обширные перечисления «родов» текстов, которые в нем может обнаружить читатель («ин род суть подобия, ин род образы, ин присловия, ин толкования, ин образов подписания, ин молитвы, ин увещания, ин обличения» [Simeon Polockij, 1996. S. 5]), а также обстоятельно описывается, какое воздействие текст может оказать на читателя: «Обрящет… гневливец – кротость и прощение удобное; ленивец – бодрость; глупец – мудрость; невежда – разум, усум-лящийся в вере – утверждение; отчаянник – надежду; ненавистник – юбовь, продерзи-вый – страх; сквернословец – языка обуздание; блудник – чистоту и плоти умерщвление; пияница – воздержание» [Simeon Polockij, 1996. S. 5].
Тем не менее это не означает, что «Вертоград многоцветный» в его окончательной редакции представляет собой собрание независимых друг от друга текстов, каждый из которых является лишь особым экспонатом «стихотворной кунсткамеры». Напротив, между стихотворениями «Вертограда многоцветного», вне зависимости от того, о какой редакции сборника идет речь, существуют определенные взаимосвязи, значимые для понимания целостного смысла сборника.
Алфавитный принцип организации текста использовался в древнерусской литературе и до «Вертограда многоцветного». Существовали толковые азбуки и сборники афоризмов, восходящие к византийским источникам и известные на Руси уже с XI в. В литературе XVII в. этот принцип приоб- ретает особое значение, поскольку он соотносится с тягой литературы барокко к энциклопедизму, созданию описаний мира в виде перечней отдельных явлений, упорядоченных определенным образом. А. В. Михайлов отмечал, что для литературы ученого барокко характерным является не только создание энциклопедий, стремящихся описать весь мир, но и создание алфавитных указателей к произведениям, которые не являются энциклопедическими по своей форме [1997. С. 123–128]. В таком качестве, на наш взгляд, можно рассматривать и «регистр» стихотворений «Вертограда многоцветного» в его отношении к первоначальной редакции текста сборника.
Хотя окончательная редакция «Вертограда многоцветного» представляет собой сборник стихотворений, выстроенных в алфавитном порядке, в ней присутствуют и структуры, сохранившиеся от черновой редакции. Это идейно-тематические единства стихотворений – циклы, объединенные общим заглавием. В пределах цикла в окончательной редакции может сохраняться первоначальная последовательность стихотворений. Однако в связи с тем что в окончательной редакции «Вертограда многоцветного» основополагающим становится алфавитный принцип, меняется и то, как может происходить процесс чтения сборника. Если тематически организованный сборник (первоначальная редакция) последовательно раскрывает определенные вопросы, а значит, требует последовательного чтения, то алфавитный сборник по своему содержанию ближе к своего рода справочнику, содержащему описание и классификацию явлений окружающего мира. Интересно отметить, что по функции его можно сопоставить с Изборником Святослава 1073 г., написанном, как следует из его заглавия, «на память и на готов ответ». В древнерусской литературной традиции известны и другие сборники, имевшие сходную функцию, однако не основанные на алфавитном принципе (например, «Пандекты Антиоха», подражающие им «Пандекты» Никона Черногорца и др.).
При анализе «Вертограда многоцветного» необходимо также учитывать, что Симеон Полоцкий, создавая этот стихотворный сборник, использовал различные источники. В результате тщательных разысканий А. Хипписли, проведенных вместе с
Л. И. Сазоновой в процессе подготовки издания «Вертограда многоцветного» 3, было установлено, что в основе более половины стихотворений «Вертограда многоцветного» лежат тексты из средневековых западноевропейских сборников. О некоторых из них известно, что они были в библиотеке Симеона Полоцкого (сборник проповедей Матиаса Фабера «Concionum Opus Tripatrium» в издании 1646 г., энциклопедический сборник «Polyanthea nova» в издании 1604 г.), наличие других сборников в личной библиотеке поэта А. Хипписли оценивает как очень вероятное (сборник проповедей «Hortus Pastorum» Якоба Марханти, сборник «Magnum Speculum Exemplorum») [Хиппис-ли, 1999. С. 700].
Сазонова отмечает, что указания на источники нередко присутствуют в текстах самих стихотворений или появляются в виде пометок на полях рядом с ними. Пометки отсылают не только к западноевропейским источникам, но и к текстам античного и византийского происхождения (в числе авторов, перечисляемых Сазоновой: Плиний Старший, Солин, Плутарх, Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин и др.) [2006. С. 563]. (В некоторых случаях речь может идти об опосредованном знакомстве Симеона Полоцкого с источниками.) Это свидетельствует о том, что Симеон Полоцкий был хорошо знаком не только с описанными выше западными источниками, но и с тем кругом чтения, который был характерен для древнерусских книжников.
Существенно, что работа Симеона Полоцкого с источниками не сводилась к простому заимствованию и стихотворному переложению чужих текстов. Он творчески перерабатывает их, комбинируя определенным образом и используя для выражения собственного замысла. Именно поэтому «Вертоград многоцветный» представляет собой авторский сборник, а не компилятивный текст: Симеон Полоцкий использует перечисленные выше источники и в качестве содержательного материала для стихотворений, и в качестве основы для собст- венных стихотворных вариаций. Покажем, как это взаимодействие происходит в конкретных текстах.
Согласно примечаниям к изданию «Вертограда многоцветного» [Simeon Polockij, 2000. S. 674], источником первого стихотворения является текст одной из проповедей Фабера. Источник последнего стихотворения (№ 26) не известен. А. Хипписли отмечает, что все стихотворения с № 2 по 24 в той или иной степени связаны с текстом «Polyanthea» (статьей «Abstinentia», представляющей собой подборку цитат на тему воздержания) [Ibid. S. 334]. Приведенный в примечаниях текст источника позволяет нам предположить, что указанные стихотворения Симеона Полоцкого представляют собой рассуждения на тему сравнительно кратких изречений первоисточника, их развернутое изложение в стихотворной форме.
Кроме того, в окончательной редакции сборника в один цикл оказались объединены тексты, которые в черновой рукописи разделены расстоянием в несколько листов и, вероятно, были написаны в разное время [Ibid. S. 716]. Большая часть стихотворений цикла (№ 2–25) сохраняет последовательность, в которой они представлены в первоначальной редакции (в ней они находились на л. 248–250). Стихотворение № 26 было перенесено с листа 395, а первое стихотворение цикла – с листа 199 черновой рукописи [Ibid. S. 674].
На основании данных, приведенных в примечаниях к третьему тому издания «Вертограда многоцветного» можно сделать вывод о том, что в рамках одного цикла объединены стихотворения, имеющие различные источники и написанные в разное время. При этом часть из них (стихотворения № 2–25) представляет собой более тесное единство, поскольку они имеют общий источник и сохраняют порядок черновой редакции. В окончательной редакции добавляются два стихотворения, одно из которых (№ 1, основанное на тексте Фабера) открывает цикл, а другое завершает (№ 26, источник которого не известен). Таким образом, Симеон Полоцкий объединяет в одном цикле стихотворения из различных источников, используя их, как будет показано ниже, для реализации собственного композиционного и содержательного замысла.
Симеон Полоцкий выстраивает последовательность стихотворений таким образом, что она отражает определенное развитие темы. Первое стихотворение вводит основную тему цикла (воздержание) в контекст одного из важнейших эпизодов священной истории – сюжета о грехопадении. Преступив принцип воздержания, Адам и Ева вкушают плод с древа познания, навлекая грех на весь человеческий род. «Древу смерти» (этот образ позаимствован у Фабера) Симеон Полоцкий противопоставляет «древо воздержания», плод которого приносит пользу.
Далее следует несколько тематических блоков, каждый из которых включает в себя 4–5 стихотворений. Симеон Полоцкий последовательно раскрывает тему пользы, которую приносит воздержание, сопоставляет телесное воздержания и воздержание от страстей, приводит библейские примеры, связанные с данной темой, говорит о том, как воздержание влияет на разум. При этом нельзя сказать, что каждому из установленных А. Хипписли фрагментов источника соответствует одно стихотворение. Например, 5 стихотворений-двустиший с библейскими примерами на тему воздержания основываются на одной цитате из «Polyanthea nova», содержащей перечисление этих примеров (упоминаются Адам и Ева, израильтяне, Исав, сыновья Илии, Ионафан, жители Содома). Сходным образом стихотворения № 4 и 5 представляют собой вариации одной цитаты из первоисточника.
Последние три стихотворения подводят итог всему циклу. В № 24 говорится о пользе воздержания для развития мудрых мыслей и добродетели, № 25 повторяет тезис о вреде чрезмерного воздержания, уже появлявшийся в предшествующих текстах цикла. Наконец, заключительное стихотворение (№ 26) содержит развернутое рассуждение автора о пользе воздержания, сопровождаемое библейскими примерами. При этом первое и последнее стихотворения цикла превосходят по объему все остальные, что говорит о том особом внимании, которое уделял им автор.
Отметим, что работа Симеона Полоцкого с источниками не сводится к выстраиванию стихотворений, в основе которых лежат различные источники, в определенном порядке. Автор «Вертограда многоцветного» вносит в них и содержательные изменения, используя заимствованные сюжеты для реализации собственного замысла.
Большое значение имеют учительные, проповеднические мотивы, возникающие в стихотворениях цикла «Воздержание». Так, в заключительном четверостишии первого стихотворения цикла появляется непосредственное обращение к читателю от лица автора («Аз увещаю пост святый хранити...»), отсутствующее в первоисточнике (сборнике проповедей Фабера). Обращения к читателю возникают в цикле неоднократно. Они есть в стихотворении, подводящем итог библейским примерам («Всех тех образов ты, брате, блюдися…», № 16), а также в стихотворении № 9, которое будет рассмотрено ниже («Убо сохраните воздержание, т h м Богу служите», № 9).
Кроме того, в стихотворениях «Воздержания» появляются мотивы, значимые для понимания «Вертограда многоцветного» и авторской позиции Симеона Полоцкого в целом, – темы «меры» и разума, которыми должен руководствоваться человек, стремящийся вести праведную жизнь.
Симеон Полоцкий вводит в тексты обращение к читателю, творчески переосмысливает заимствованные сюжеты и идеи, при необходимости создавая авторские вариации на их основе. Он формирует систему тематических повторов, которая является основой композиции этого стихотворного цикла.
Благодаря подобным повторам цикл оказывается включенным в контекст сборника. Ярче всего это можно показать на примере присутствующих в «Вертограде многоцветном» эмблематических стихотворений и стихотворений, близких к ним по своей структуре. Стихотворения, воспроизводящие структуру трехчастной барочной эмблемы (девиз, изображение, подпись), состоят из двух частей: описание какого-либо экзотического животного или предмета и его толкование. Третьему компоненту эмблемы – девизу, который отсутствует в стихотворении, в некоторых случаях соответствует название текста. Отличительными признаками такого стихотворения является толкование отдельных элементов изображения и произвольность этого толкования. Один и тот же образ может появляться в нескольких стихотворениях и использоваться для обозначения разнородных понятий. Ярким примером эмблематического стихотворения является одно из стихотворений цикла «Молитва» (впервые на него как на типичное проявление особенностей поэтического стиля барокко в творчестве Симеона Полоцкого указал И. П. Еремин [1948. С. 131]). Текст этого стихотворения четко делится на две части. Первая из них представляет собой образ, а вторая – его истолкование, причем истолковывается не только образ в целом (в первой части стихотворения описывается хамелеон, который убивает змея «некоей нитью», исходящей из его уст), но и его конкретные детали (хамелеон – молящийся человек, нить, исходящая из его уст – молитва, капля на конце этой нити – имя Иисус). Сходное построение имеют и многие двустишия. В этом случае толкование отдельных элементов описываемого в стихотворении образа отсутствует, но сохраняется сам принцип двухчастного построения.
Важно, что значения одного образа в различных стихотворениях могут не просто отличаться, но и иметь противоположные коннотации (нередко это обусловлено использованием различных источников). Взаимосвязи этого рода пронизывают весь сборник и связывают его в единое целое, а наличие разных толкований одного образа обогащает его понимание и делает его неоднозначным.
В рассматриваемом нами цикле «Воздержание» есть несколько стихотворений, имеющих двухчастную структуру, близкую к структуре эмблемы.
№ 9
Аще не тщится игрец натягати струны во гуслhх, та не может дати Сладкаго гласа; тако силы тhла невоздержанна не дают весела Богови гласа. Убо сохраните воздержание, тhм Богу служите.
№ 18
Отъими дрова – пламень угасится; отъими пищу – страсть ти умалится.
№ 19
Пекло, жупел, слама огнь великий раждает;
вино, масло и тук похоть умножает.
№ 21
Дрова многая мал огнь угашают, брашна лишняя разум истребляют.
№ 22
Яко от огня дым всегда бывает, тако от вина похоть ся раждает.
Примечательно, что образ огня в этих стихотворениях толкуется различным образом. Он используется для обозначения не только страсти или похоти, но и разума (№ 21). В стихотворении № 22 устанавливается причинно-следственная связь, в которой обозначением похоти служит дым, а огню соответствует вино. Таким образом, один и тот же образ может использоваться для обозначения разных понятий и выступать в различных контекстах. Наряду с традиционным сопоставлением огня и страсти, которое, на наш взгляд, было в меньшей степени энигматичным для читателя, существует сопоставление огня и разума в стихотворении № 21, которое содержит бытовое наблюдение («дрова многая мал огнь угашают»), на основании которого автором создается конкретная метафора.
Использование образа огня в различных значениях не ограничивается рамками данного цикла: в других циклах огонь может выступать как обозначение веры («Вера», 1, «Веры соблюдения средства», 4) [Simeon Polockij, 1996. S. 192, 200], человека («Горе воздыхати», 1) [Ibid. S. 223], любви («Любовь», 13) [Simeon Polockij, 1999. S. 264]. В нескольких стихотворениях, не входящих в цикл «Воздержание», образ огня также используется как обозначение похоти. Кроме того, этот образ связан и с темой «геенны огненной», т. е. адского пламени. В стихотворении № 15 из цикла «Любовь» сопоставляются два толкования образа: душа человека должна гореть огнем любви, иначе ее ожидает огонь геенны.
Следовательно, один и тот же образ может выступать в различных значениях в рамках одного цикла и даже внутри одного текста. На наш взгляд, это проявление нового для древнерусской литературы отношения к знаку, возникающего в литературе барокко. Один и тот же образ (описание предмета, животного, явления природы) может использоваться не просто для обо- значения разных понятий, но для обозначения понятий, имеющих противоположные коннотации и относящихся к противопоставленным тематическим областям.
Таким образом, стихотворения цикла «Воздержание» взаимодействуют между собой на разных уровнях и в различных смысловых аспектах. Несмотря на разнородность текстов, входящих в состав цикла, и тот факт, что они заимствованы из различных источников, цикл имеет четкую композицию, в которой каждое стихотворение занимает определенное место. Кроме того, цикл не ограничен внутренними взаимосвязями. Он взаимодействует и с другими текстами, входящими в состав «Вертограда многоцветного» за счет образных и тематических повторов, обогащающих значение отдельных символов.
Симеон Полоцкий творчески перерабатывает используемые источники. «Вертоград многоцветный», который можно в полной мере назвать авторским сборником, находится на пересечении различных традиций: обращается и к современным ему западноевропейским источникам, и к образам, берущим свое начало в древнерусской литературе предшествующих периодов.
Симеон Полоцкий использует различные жанры, проявляя в этом свою ученость: среди стихотворений есть поучения, эпизоды из мировой истории, библейские сюжеты, поучительные истории бытового характера. На примере цикла «Воздержание» можно видеть, как наряду с традиционными мотивами учительной литературы (примерами из Библии, обращениями к читателю) возникают приемы, характерные для литературы барокко: использование одного и того же символа в различных значениях, сложная композиционная структура, тяга к перечням и классификациям. Однако это разнообразие, которое Симеон Полоцкий в предисловии к «Вертограду многоцветному» сравнивает с разнообразием трав в саду [Simeon Polockij, 1996. S. 5], подчиняется определенному авторскому замыслу – идее упорядоченности, создания стройной картины мира, доступной для понимания читателя. Стихотворения «Вертограда многоцветного» стремятся не только сообщить читателю какие-либо сведения об окружающем мире (например, об экзотических животных или исторических деятелях), но и научить его принципам высокой нравственности, со- гласно которым он должен строить свою жизнь.
TO THE CHARACTERIZATION OF «VERTOGRAD MNOGOCVETNYJ» BY SIMEON POLOCKIJ AS AN AUTHOR’S COLLECTION OF POEMS