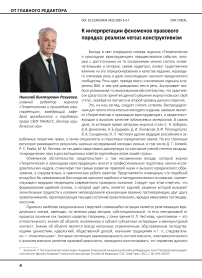К интерпретации феноменов правового порядка: реализм versus конструктивизм
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 1 (23), 2025 года.
Бесплатный доступ
ID: 14133144 Короткий адрес: https://sciup.org/14133144
Текст ред. заметки К интерпретации феноменов правового порядка: реализм versus конструктивизм
Выходу в свет очередного номера журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция» предшествовали события, которые с достаточными на то основаниями можно считать знаменательными и которые, смеем надеяться, окажут существенное влияние на его позиционирование в качестве издания, играющего ключевую роль в деле консолидации научного юридического сообщества. Речь идет, прежде всего, о включении журнала в перечень ВАК, о чем уже доводилось вести речь. Заслуживает особого упоминания то немаловажное обстоятельство, что практиче- ски сразу после принятия данного решения журнал повысил свой статус, перейдя из третьего на второй уровень данного перечня.
Это, на наш взгляд, следует считать успехом, беспрецедентным для такого относительно молодого издания, каковым является «Теоретическая и прикладная юриспруденция», и свидетельствующим о высоком качестве публикуемых материалов. В самом деле, за истекшее время авторами журнала стали С. Н. Бабурин, В. В. Денисенко, А. Б. Дидикин, Д. И. Луковская, В. Ф. Попондопуло, В. А. Слыщенков, И. Л. Честнов и другие ведущие российские и за- рубежные теоретики права, а также специалисты в отраслевых юридических науках. На его страницах регулярно размещаются результаты научных исследований молодых ученых, в том числе Д. Г. Аловой, Р. С. Рааба, М. М. Пестова, не так давно защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук в диссертационных советах крупнейших вузов нашей страны.
Отмеченное обстоятельство свидетельствует о том несомненном вкладе, который журнал «Теоретическая и прикладная юриспруденция» вносит в профессиональную подготовку научно-исследовательских кадров, стимулируя тем самым развитие правовой науки и высшего юридического образования, а следовательно, и практическую работу юристов. Представляется очевидным, что подобный вклад был бы невозможным без создания прочного идейного и методологического основания, соответ- ствующего ведущим тенденциям современного правового познания. Следует при этом отметить, что формирование идейной основы, о которой идет речь, является задачей, решение которой вызывает значительные трудности в условиях непреодолимой конкуренции взаимно противоречащих друг другу правопониманий, характеризующих текущее состояние правопознания, нередко именуемое постмодер- нистским.
Одним из наиболее неоднозначных следствий сложившейся ситуации является релятивизация юридического знания, имеющая, по мнению ряда авторов, субстанциональный, то есть неотделимый от процесса познания как такового характер. Например, с точки зрения И. Л. Честнова, «релятивизм — это относительность знания об объекте, включенном в субъект-субъектные интеракции и межкультурный контекст. Знание об объекте является всегда неполным, ограниченным, обусловленным господствующими ценностями, идеологией, общественной доксой, научными традициями и т. п., следовательно — относительное»1. Учитывая системную взаимосвязанность онтологического, эпистемологического и аксиологического аспектов правовой реальности, приходится констатировать, что торжество данного подхода порождает серьезные проблемы не только в плане познания права, но и в плане его бытийного статуса, а также ценностной значимости, определяющих юридические практики, формирующие исходный, базовый уровень правового бытия2.
Так, в правотворческой практике релятивизм создает условия для ее вовлечения во множество конфликтующих между собой языковых игр, несущих взаимоисключающую идеологическую, социально-психологическую и прагматическую нагрузку. Это лишает юридический дискурс внутренней осмысленности, порождая предпосылки для конфликтов интерпретации даже не на стадии толкования, а уже на стадии создания как норм права, так и субъективных прав. Наиболее наглядной иллюстрацией сказанного, на наш взгляд, может служить несочетаемость дискурсов высшей ценности прав и свобод человека, закрепленного ст. 2 Конституции Российской Федерации3, с одной стороны, и последовательной публицизации институтов частного права4, предполагающей в том числе широкую возможность ограничения субъективных прав «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 2 ст. 1 ГК РФ)5.
Рассмотренная ситуация со всей отчетливостью проявила себя, как мы помним, в период действия ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19, вызвавших, при всей своей целесообразности, далеко не однозначную реакцию со стороны широкой общественности6. Ее причина, во многом проистекающая из типичной для последних десятилетий социокультурной ситуации, состоит в плюрализме правовых текстов, претендующих на юридическую релевантность, в том числе и вопреки устоявшимся доктринальным представлениям, отражающим рациональность правового мышления эпохи модерна. Данные представления сложились в XVII–XVIII вв. под влиянием идейного поворота7, вначале имевшего место в рамках философии и естественных наук Нового времени, а затем затронувшего сферу гуманитарного знания. Своим ключевым моментом они имеют системную иерархию юридических (как, впрочем, и любых иных культурных) текстов, основанную на дифференциации их значимости по степени юридической силы.
Этот базовый принцип организации правопорядков эпохи Нового времени был, как известно, доведен до своего логического завершения в правовых системах романо-германской правовой семьи с их верховенством закона и исключением судебного решения из числа нормативно релевантных юридических текстов. Компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кётц относят данную характеристику к числу общей стилистической особенности романо-германского права8. Напротив, к числу стилевых особенностей англо-американской правовой семьи, отмеченной существенным влиянием традиционного правового мышления и соответствующего исторического типа рациональности, принадлежит также и правотворческое значение судебных и доктринальных текстов9.
Однако по мере становления постнеклассической рациональности, строящейся на отрицании базовых представлений, образующих фундамент классической картины правовой реальности, указанная дихотомия всё более утрачивает свое значение, на что обращают особое внимание представители англо-американского, скандинавского и российского юридического реализма. В частности, утрачивается различие между иерархическими и неиерархическими системами права, между официальными и неофициальными правовыми текстами, нормативными и индивидуальными правоприменительными актами, наконец, между общезначимыми нормами и единичными юридическими фактами, берущимися за основу в прецедентных судебных решениях. Всё это расширяет горизонты возможностей для судейского правотворчества, заставляя представителей профессионального юридического сообщества вести речь о «прецедентном праве» применительно к российской правовой системе, всегда придерживавшегося достаточно жесткой позиции на сей счет10.
Примечательно, что дискуссии о переходе российского права на прецедентные рельсы активизировались в последние годы в свете принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановлений № 12 от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» и № 13 от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»11, явно не предполагающих столь далеко идущих выводов. На деле в указанных постановлениях высший судебный орган руководствовался (в полном соответствии с формальной юридической логикой, требующей беспробельности и внутренней непротиворечивости правового регулирования) необходимостью восполнить пробел, образовавшийся после утраты силы нормы ст. 304 АПК РФ, предусматривавшей в качестве одного из оснований отмены судебного решения его противоречие единообразному толкованию и применению норм, установленному Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации12.
Не следует преувеличивать и радикальный характер упомянутой выше нормы, содержательно воспроизводящей более ранние положения советского законодательства, а именно ст. 3 Закона СССР «О Верховном Суде СССР» от 30.11.1979 № 1165-X, устанавливавшей, что Верховный Суд осуществляет контроль за выполнением судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР. Это в какой-то мере позволяло считать его решения обладающими правотворческим значением, поскольку разъяснения Пленума формировали единообразную практику судебного применения правовых норм, однако ни сами судебные органы, ни советская правовая доктрина не видели в ней чего-то, даже отдаленно напоминающего прецедента в англо-американском праве13.
Вот почему кардинальное переосмысление понятия прецедента (будь то прецедент судебный или административный) и попытки его внедрения в отечественный правопорядок, с одной стороны, свидетельствуют об укоренении идеалов постклассической рациональности в российском правовом мышлении; с другой — они служат ответом на известные запросы, исходящие от судей и правоприменителей, вынужденных сталкиваться на практике с появлением новых феноменов, не укладывающихся в рамки типизированных юридических интерпретаций, которые основаны на норме закона и иных официально признанных источниках14.
Такие феномены возникают практически во всех регионах бытия правовой реальности15, но особенно многочисленными они являются в сфере гражданского права, ставя именно перед цивилистами
(в широком смысле, включая ученых, судей, юристов-практиков) задачу посредством толкования заложить фундамент для их правового конституирования. В качестве наглядных примеров можно указать, помимо ставших уже широко известными, такие практически весьма значимые институты, как наследственные фонды (ст. 123.20-8 ГК РФ), здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения, машино-места (ст. 287.1 ГК РФ) и др.
Осмысливая указанное обстоятельство, сторонники юридико-реалистического подхода приходят к выводу о принципиальном плюрализме источников современного российского права, предполагающем их широкое понимание. Так, по словам Е. Н. Тонкова: «Распространенное убеждение в том, что основным источником права является нормативный акт, основано на игнорировании юридических практик, детерминированных не нормой закона, а волей и казуальным толкованием властного лица. Анализируя юридические факты и правоотношения, правоприменитель не всегда способен установить, какой из источников права в большей степени формирует его убеждение в принятии итогового решения по делу… Актуализация плюрализма источниковой базы, введение в оборот “неканонических” форм права способствует всестороннему анализу правопорядка»16.
Соглашаясь с тем, что плюрализм юридических текстов (источников права), конструирующих феномены правовой реальности, в современных условиях является важной характеристикой правопорядка, следует в то же время предостеречь против ее некритичного восприятия, к сожалению, свойственного отечественной версии правового реализма. В самом деле, попытки объявить произвольные толкования судьи или иного носителя властных полномочий «источниками права» чреваты угрозой возведения дискреционных полномочий суда в ранг закона. С учетом же глубоко укорененного в судейском сообществе представления о том, что задача суда состоит в установлении некоей «объективной истины», последовательное развитие реалистического подхода (в указанном выше смысле) способно привести к оправданию самого вопиющего произвола как якобы «нормального состояния» правовой реальности как таковой.
Справедливости ради следует отметить, что версия правового реализма, развиваемая Е. Н. Тонковым и его единомышленниками, является своеобразной разновидностью постклассического правопонима-ния, представленного в том числе и на страницах журнала «Теоретическая и прикладная юриспруден-ция».С позиций указанного типа правопонимания можно утверждать, что правопорядок и его феномены конструируются участниками правовой коммуникации на основе элементов их субъективного и интерсубъективного опыта. Вместе с тем не только объекты, но и сами субъекты правотворческой и правоприменительной деятельности являются результатами подобного конструирования, неотделимыми от правовой реальности, частью которой они выступают. Таким образом, бытие права представляет собой сложную семиотическую конструкцию, возникшую в процессе самосборки (аутопоэзиса) правовой реальности. Аутопоэзис правовой реальности осуществляется разнообразными средствами, центральное место среди которых занимают познавательная и практическая юридическая деятельность.
Необходимо при этом с осторожностью относиться к утверждениям о реальности и истинности такого рода конструкций, формирование которых требует необходимых предварительных усилий по совершенствованию как методологии юридической науки, так и, прежде всего, ее идейных оснований. Представляется, что ценность «правового реализма» состоит именно в том, что, указывая в заведомо провокативной форме на недостатки и внутренние противоречия конструктивистского подхода к интерпретации феноменов правовой реальности, он стимулирует его к дальнейшему творческому развитию. Последнее, очевидно, нуждается в постановке таких вопросов, которые вечно волновали умы ученых-юристов и без ответа на которые прогресс правового познания невозможен.