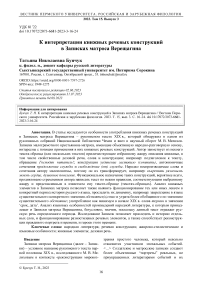К интерпретации книжных речевых конструкций в записках матроса Верещагина
Автор: Бунчук Т.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности употребления книжных речевых конструкций в Записках матроса Верещагина - рукописном тексте XIX в., который обнаружил в одном из рукописных собраний Национальной библиотеки Чехии и ввел в научный оборот М. В. Мелихов. Записки малограмотного крестьянина-матроса, имеющие объективную народно-разговорную основу, интересны с позиции применения в них книжных речевых конструкций. Автор заимствует из некоего текста-образца (или нескольких текстов) приличествующие избранному жанру описания книжные, в том числе свойственные деловой речи, слова и конструкции; например: подзаголовок к тексту, обращение Господин читатель!; конструкция уединение заставило (сочинить), антонимичные сочетания продолжение службы и свобождение (от) службы. Нередко воспроизводимые слова и сочетания автору малопонятны, поэтому он их трансформирует, например: въкрепить уязленымъ моимъ сердце, душевное повеление. Функциональное назначение таких конструкций, вероятнее всего, продиктовано стремлением автора написать текст по неким правилам, соответствующим выбранному жанру и представленным в известном ему тексте-образце (текстах-образцах). Анализ книжных элементов в Записках матроса позволяет также выявить функционирование тех или иных лексем в конкретный период истории русского языка, проследить их динамику, например: закрепление в языке существительного конкретного значения обстоятел(ь)ство и утрата более обобщенного по значению существительного обстояние; употребление как минимум в начале XIX в. слова термин в значении ‘срок, дата’. Анализ языковых особенностей произведений народной литературы, к которым принадлежат и Записки матроса Верещагина, безусловно, значим, поскольку данный текст отражает русскую речь определенного периода. Исследование Записок позволяет проследить и историю отдельных слов, и функционирование разностилевых речевых элементов, а также способствует реконструкции правдивого портрета и времени, и героев этого времени.
Народная литература, речевая конструкция, жанрово-стилистические и языковые особенности, книжные элементы, деловая речь
Короткий адрес: https://sciup.org/147241903
IDR: 147241903 | УДК: 81’22 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-16-24
Текст научной статьи К интерпретации книжных речевых конструкций в записках матроса Верещагина
Записки матроса Верещагина (далее – Записки) – условное название рукописного текста первой половины XIX в., исследованного М. В. Мелиховым в контексте «реконструкции мировоз- зрения простого человека, который невольно становится участником эпохальных событий. <…> Солдатские и матросские записки создают более объективные “портреты” реальных, не приукрашенных литераторами событий и их
участников, расширяют наши представления о малоизвестной истории собственно народной литературы, в которой находило отражение мнение обычного человека о своем времени и о своем месте в этом времени» [Мелихов 2019: 81]. Наряду с крестьянскими дневниками они, как отмечает А. В. Пигин, «доносят до нас живые голоса тех людей, которые, казалось бы, не сыграли заметной роли в истории, но свидетельства которых дают порой гораздо больше для ее понимания, чем многие исторические документы» [Пигин 2017: 278].
Произведения народной литературы отражают русскую речь определенного периода, а «простодушные, с массой грамматических и стилевых ошибок тексты, как нам кажется, и фиксируют наиболее правдивый портрет и времени, и героев этого времени» [Мелихов 2019: 72]. Вот и Записки малограмотного матроса изобилуют разговорными конструкциями, перемежаются текстами близкого автору солдатского фольклора, содержат большое количество профессиональных наименований, связанных с военной (морской) службой. Добавим, что особенно показательны в этом смысле исследования, посвященные солдатскому фольклору (см., например: [Володина, Подрезов 2021]).
Вместе с тем в тексте Записок имеют место и книжные слова и конструкции, нередко видоизмененные автором. Изучение их состава и функционального назначения представляется нам важным в контексте исследований источников народной литературы, их жанрово-стилистических и языковых особенностей. Рассмотрение таких книжных «вкраплений» в, условно говоря, бытовое повествование позволяет определить особенности взаимодействия устной и книжнописьменной культуры в речи рядового носителя русского языка начала XIX в., предположить своеобразие его языковой рефлексии и установить функциональные свойства слов и речевых конструкций (см., например: [Судаков 2013]).
Очевидно, что при составлении текста «наивный» автор, матрос Верещагин, ориентировался на некий текст (тексты) и пытался сохранить принятую в нем структуру и использовать соответствующие описанию языковые конструкции. Это свидетельствует о сформировавшемся к тому времени представлении о письменной речи как о речи образцовой, требующей особого языкового оформления, даже если это бытовое жизнеописание в тексте личного характера. Такое восприятие письменной речи сформировало тип, точнее, ипостась, языковой личности – письменно-речевую личность, для которой важно жанро- вое сознание в так называемой естественной письменной речи, реализуемой в записках, письмах и дневниках (см., например: [Лебедева, Корюкина 2013]).
Анализ книжных речевых конструкций и их источников
Книжные слова и конструкции использованы «наивным» автором главным образом в подзаголовке текста и предисловии, которые можно рассматривать как определенного рода авторскую манифестацию его коммуникативной интенции в создании текста дневника – выразить личные переживания и жизненные обстоятельства в письменной форме.
Подзаголовком Записок можно считать предложение Описание следующих обстоятелствъ продолжения службы шхиперскаго помошника Констентина Верещагина , которое включает указание на жанр (описание) и конструкции, свойственные книжному, в большей степени деловому стилю. Предполагаем, что формула заголовка заимствована из какого-то текста-образца, на который ориентировался автор.
В подзаголовке обращает на себя внимание употребление слова обстоятелство . Данное существительное зафиксировано в Словаре русского языка (СРЯ) XVIII в. в значении ‘событие, факт, относящиеся к чему-л., связанные с чем-л.; та или иная сторона дела, события’ (СРЯ XVIII в. 16: 92–931). При этом в словарной иллюстрации оно входит в состав конструкции «из сих выше-писанных обстоятелств» (ср. с анализируемым заголовком). В таком написании оно зафиксировано и в НКРЯ (самый ранний – Артикул воинский, 1915, где оно употреблено более десятка раз; при этом в обоих вариантах написания: обстоятельство / обстоятельства ).
Добавим, что СРЯ XVIII в. фиксирует еще одно однокоренное слово с подобным значением – обстояние ; ср.: 2. ‘положение, совокупность условий, обстоятельств’, известное русскому языку как минимум с середины XV в. (СРЯ XVIII в. 16: 91–92); ср.: обстояние (обьстояние) – 3. ‘положение, совокупность условий, обстоятельств’ (СРЯ XI–XVII вв. 12: 170).
Исследователи указывают, что субстантивы на -ние «искони специализировались на выражении процесса, действия»; начиная с древнерусского периода сфера их употребления активно расширялась, и в XIX в. их образование стало возможным «не только от разговорно-просторечных глаголов, но и от глаголов с фразеологически связанным значением» [Пильгун 2003: 64– 65]. Вместе с тем новообразования на -ство ста- ли активно использоваться, например, в юридических документах Петровского периода [Петрунин 1985] и, как в описываемом случае, даже вытеснять субстантивы на -ние. НКРЯ фиксирует редкое употребление лексемы обстояние в современных текстах священнослужителей, а также в научных и научно-популярных текстах (например: обстояние дел(а) (публикация в журнале «Знание – сила», 2013, философская статья, 1993); обстояние вещей «Вестник США», 2003, текст диссертации по логике, 2002).
Таким образом, сущ. обстоятел(ь)ство (равно как и об(ь)стояние ) оказывается стилистически маркировано как книжно-письменное слово, косвенным подтверждением чему может являться и факт отсутствия обеих лексем в СРНГ (здесь зафиксировано единичное употребление сущ. обстоятельства с неуточненным значением; см.: (СРНГ 22: 238), и его повторное использование в тексте Записок в конструкции с производным предлогом по причине, который и в настоящее время характеризуется как книжный (см., например: [Цзинсун Гун 2017]).
Укажем и на употребленное в подзаголовке сочетание продолжение службы , фиксируемое в НКРЯ в текстах делового характера с первой половины XIX в. (тексты Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. А. Корфа и др.). Книжное сущ. продолжение в значении ‘продление, продолжение чего-л. во времени’ употребляется в русском языке еще с XIII в. (СРЯ 11–17 вв. 20: 122) и в сочетании продолжение службы является элементом деловой речевой формулы. Слово с терминологическим значением служба (по отношению к военной службе) в тексте Записок не требует пояснений, уточнений: оно давно укрепилось в народной речи, в том числе в фольклоре (СРНГ 38: 308) (см., например, его употребление в приведенных автором Записок текстах солдатского фольклора: Тогда ту жъ ему обещаютъ / Его службу почитают ), поэтому автор при необходимости достаточно свободно приспосабливает его к своим нуждам, применяя, например, форму множественного числа ( Къ побоямъ я не знал, гдѣ есть такие службы, чтобы солдатъ не били ). Заметим попутно, что такое «неправильное» употребление связанных с военной службой профессиональных наименований в исследуемом тексте обусловлено, на наш взгляд, и неточным пониманием автором их значения, и недостаточным уровнем грамотности или начитанности автора (см., например, в тексте Записок: унд ѣ ръ / ундеръ-офицер, форъ-марсовые (матросы) и др.).
Примечательно, что в тексте Записок использована конструкция делового характера сво- бождение (от) службы, которую можно квалифицировать как квазиантонимичную описанной выше (продолжение – свобождение), образованную по той же модели (отглаг. сущ. + служба в соответствующей падежной форме), что позволяет предположить наличие в деловой речи XIX в. устойчивой модели языкового выражения данных социальных отношений. Конструкция свобождение (от) службы употреблена автором Записок в предисловии к основному тексту, значительно отличающемуся от основного текста использованием книжных речевых конструкций.
В Предисловии очевидно проявляется жанровое сознание наивного автора: матрос Верещагин строит его по известному ему «канону», почерпнутому из какого-то авторитетного для него текста. Предисловие представляет собой логически последовательную цепь текстовых фрагментов: 1) повода ( Уединение заставило сочинить душевное повеление ), 2) причины ( Болшая печаль наставити по причине т ѣ хъ абъстаятелствъ, кои состоятъ въ последующем, пабудили меня после свобождения моей службы описать те приключения, которые со мной случались ) и ее развернутых пояснений, 3) цели, выраженной в призыве ( Пусть оные родители по нихъ повле-кутца, чтобы ихъ наставлять – и богъ ихъ не оставитъ ) . Здесь очевидна отсылка к жанру наставления (в Записках – адресованного родителям), однако матрос Верещагин только пользуется формой наставления для придания своему повествованию признаков письменного текста, так как далее в тексте Записок мотив наставления не реализуется. Закономерна в этой связи насыщенность предисловия книжно-письменными элементами, чем оно весьма отличается от основного текста повествования, где автор после соблюдения, так сказать, необходимых формальностей переходит к изложению актуального для него содержания и переходит преимущественно на бытовую разговорную речь.
В предисловии автор использует традиционное для ряда письменных жанров того времени обращение Госпадинъ читатель! Исторические словари фиксируют сущ. господин в составе обращения с сер. XVII в. как формулу почтения, уважения, вежливости (СРЯ XI–XVII вв. 4: 101). В XVIII в. сущ. господин начинает употребляться в составе «вежливого упоминания или обращения» при фамилии, звании, чине, сословии; при наименовании лиц определенных занятий, национальности, места жительства (СРЯ XVIII вв. 5: 190–191]: в качестве примера можно привести обращения по званию по повестях XVIII в.: гос- подин атаман в «Повести о российском матросе Василии»; господин ковалер, господин барон в «Повести о российском кавалере Александре» [Русские повести… 1965: 191–210, 211–294]. Обращение Господин читатель зафиксировано в НКРЯ в произведении М. Д. Чулкова «Пересмешник, или Славенские сказки» (1766–1768). Более активно, как следует из материалов НКРЯ, употребляется в то время обращение Дорогой читатель: зафиксировано более ста фактов, первое употребление отмечено в произведении А. В. Дружинина («Заметки петербургского туриста», 1856). Можно предположить, что обращение Госпадинъ читатель! выполняет в Записках, скорее, функцию маркера письменного повествования. Трудно сказать, писал ли матрос Верещагин с расчетом на то, что его Записки будут читать (по крайней мере вряд ли он полагал, что его текст опубликуют или будут переписывать), однако сложившееся у него представление о письменной форме речи вынуждает его включать подобного рода маркеры в свой текст.
В основном тексте Записок автор использует иное обращение – Отцы и братия!, более свойственное церковной среде (НКРЯ, например, фиксирует 17 фактов за период 1830–2010 гг., и лишь некоторые употреблены в художественных текстах – в речи соответствующих персонажей). Безусловно, обращение Отцы и братия! хорошо знакомо матросу Верещагину, возможно, настолько, что он использует его как обычное и подобающее ситуации наряду с речевыми формулами богъ (ихъ) не оставитъ, Онъ благоскло-ненъ и милосердъ, Богъ свободилъ, употребленными в основной части текста. Заметим при этом, что в Записках такие церковно-книжные формулы речи единичны (мы перечислили все), они не выбиваются из основного, бытового стиля повествования, в связи с чем и оцениваются нами как привычные, свойственные автору речи, носителю народно-православной культуры, сознание и кругозор которого с детства формировались посредством знакомства с текстами Священного Писания. Кроме того, компоненты этого обращения отцы и братия использовались в военном лексиконе и фольклоре XIX в. в составе формул «отцы-полководцы» и «отцы-командиры» (НКРЯ фиксирует их употребление в XIX в.) и «наш брат» («наша братия») в значении ‘я и мне подобные’ (сам матрос Верещагин использует это сочетание в таком значении: …глядимъ, как живутъ наша братия, красуица…). Вследствие этого можно предположить, что автор речи, используя обращение Отцы и братия!, книжное по происхождению, сам, скорее всего, не оценивает его таковым и включает в свою речь как нейтральное.
В предисловии к основному тексту (при пояснении причин к составлению Записок) встречается еще одна книжная по происхождению речевая конструкция – въкрепить уязленымъ моимъ сердце , имеющая прямым источником текст вечерней молитвы к Пресвятому Духу (см.: Уязвлен бых сердцем [Вопросы священнику: эл. ресурс]). Глагол уязвлять обнаруживается в словаре В. И. Даля в значении ‘оскорбить, обидеть, причинить нравственную язву’ (Даль IV: 530). Сочетание уязвленное сердце зафиксировано НКРЯ главным образом в художественных произведениях (самое раннее – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, 1779–1790) и в тексте слова известного адвоката А. Ф. Кони, 1874); употребляется сочетание и в повестях XVIII в. (ср., например: «...и разжи-занми плотскими сердце ея уязвленно бе к нему всегда» [Русские повести… 1965: 165]). Сочетание укрепить сердце имеет церковно-книжное происхождение, см.: «Долготерпи́те и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается» [Послание Иакова: эл. ресурс]; оно широко употребляется в текстах молитв, в речах священнослужителей. Контаминированная из двух церковно-книжных речевых формул конструкция, представленная в Записках, позволяет утверждать, что автор заимствовал их из какого-то текста-образца, возможно, заимствовал и целую конструкцию, но воспроизвел ее в неправильной грамматической форме, равно как и написание глагола въкрепить , поскольку смысл их ему не был до конца ясен.
В контексте нашего исследования вызывает интерес конструкция Уединение заставило сочинить душевное повеление. Книжное уединение в значении ‘удаление, уединение’ от глагола уединиться – ‘уединиться, удалиться в одиночество’, равно и соотносимое с ним прилагательное уединенный ‘одинокий’ находим в Словаре И. И. Срезневского (Срезневский III, 2: 1159]. Слово уединение употреблено как антоним к сущ. забава в упоминаемой выше «Повести о российском кавалере Александре» [Русские повести… 1965: 212]; в НКРЯ фиксируется в текстах с середины XVIII в. (Ломоносов, Чулков, Сумароков); здесь отмечено и единичное сочетание уединение заставило («Воспоминания» А. Г. Достоевской, 1911–1916). Полагаем, что и книжное сочетание уединение заставило возник- ло в речи матроса Верещагина под влиянием какого-то знакомого ему книжного источника.
Глагол сочинить в употребленном значении ( Уединение заставило сочинить душевное повеление ) не отмечен в исторических словарях, народной речи он известен в других значениях (см.: СРНГ 40: 92). НКРЯ содержит деловые тексты, датируемые началом XVIII в., в которых данный глагол употребляется в анализируемом нами значении; см., например: сочинять устав, сочинять протокол, чертежи сочинять, законы сочинять и др. (Генеральный регламент 1720 года, Регламент или устав Духовной коллегии, Представление Петру I о межевании земель и составлении ландкарт Т. Н. Татищева и др.). Из представленного в НКРЯ материала видно, что постепенно глагол сочинять (какие-л. тексты) стал активно применяться и по отношению к текстам самого разного содержания (например: сочинять духовные книги – в письме В. Н. Татищева, 1735; сочинять – об оде в «Рассуждении об оде вообще» В. К. Тредиаковского, 1734; сочинять «Российский лексикон» / диссертацию / слово похвальное – в текстах М. В. Ломоносова, и др.). Как видим, в Записках матроса Верещагина данный глагол использован в сохранившемся до настоящего времени значении ‘создавать ка-кое-л. литературное или музыкальное произведение’ (БТС: эл. ресурс) и стилистически не маркирован.
Вызывает некоторые трудности определение авторского замысла, заложенного в сочетании душевное повеление. С нашей точки зрения, оно может означать и некий жанр, и использование трансформированной книжной конструкции по велению души. Нам не удалось найти документальные свидетельства существования в письменной речи жанра душевного повеления. Исторические словари устанавливают, что имел место жанр душевной / духовной грамоты (СРЯ XI– XVII вв. 4: 381, 387), при этом в XVIII в. возможен лишь вариант духовная грамота (СРЯ XVIII в. 7: 41). Однако данный жанр по своему назначению никак не соотносится с исследуемым текстом. Иных возможных вариантов интерпретации некоего письменного текста, включающего лексемы душевный, повеление / веление, лексикографические источники не дают. Мы предположили, что сочетание душевное повеление представляет собой авторский вариант речевой формулы по велению души. НКРЯ фиксирует следующие ее варианты: по велению совести (письмо Л. Л. Толстого императору, 1905; речь П. А. Столыпина в Комиссии по государственной обороне, 1908); по велению ума, а не своих страстей (из сочинения П. И. Ковалевского, 1900–1910); по велению сердца (45 фактов, относящихся к периоду 1951–2002 гг.); по велению души (17 фактов, относящихся к периоду 1988– 2019 гг.). Последнее из указанных сочетаний отнесено в современном русском языке к фразеологизмам с пометой «высок.» (см., например: (Федоров 2008: 62)). Мы далеки от мысли, что автор Записок, матрос Верещагин, имел в своем активном речевом запасе книжное сочетание по велению души (во всяком случае, анализируемый текст не дает к этому оснований), и предполагаем, что ему, возможно, были известны и какие-то варианты данной речевой формулы, и какие-то варианты духовных текстов, в том числе заветов / завещаний – и всё это вместе трансформировалось у него в обозначении сочиненного им текста как душевное повеление. Не исключаем при этом и прямое заимствование данного сочетания из какого-то известного автору текста.
Далее обратимся к анализу элементов речевой конструкции, обозначающей причину, подтолкнувшую матроса Верещагина к составлению Записок ( Болшая печаль наставити по причине т ѣ хъ абъстаятелствъ, кои состоятъ въ последующем, пабудили меня после свобождения моей службы описать те приключения, которые со мной случались ). Отглагольное сущ. свобожде-ние , которое употребил матрос Верещагин, в форме освобождение фиксируют исторические словари: СРЯ XI–XVII вв. (13: 80) – освобождение ‘избавление’ (первая фиксация – XVII в. в сочетании «отъ смерти освобождение»); осво-божение ‘предоставление свободы, освобождение’ (в сочетании «освободить слуг»); СРЯ XVIII в. (17: 93) освобождение – действие по глаголу освободить – освобождать , в том числе в значении ‘уволить, отстранить от служебных обязанностей’). СРНГ со ссылкой на Словарь Академии Российской 1822 г. отмечает глагол свободить – свобождать ‘освобождать, избавлять кого-л. от чего-л.’ (СРНГ 36: 306). Можно предположить, что бесприставочная форма глагола была характерна для разговорной народной речи. Однако существительное с отвлеченным значением, которое формирует словообразовательный формант -ени- , народной речи, конечно, не было свойственно. Таким образом, лексема свобождение (от солдатской службы), употребленная автором в тексте Записок, представляет собой своеобразное объединение привычного матросу Верещагину бесприставочного глагола и книжного по происхождению слова освобождение как составного элемента деловой речевой формулы.
Пояснения причин, побудивших к составлению Записок, потребовали от автора не только воспроизвести чужие формульные речевые конструкции, но и представить собственные рассуждения. Именно поэтому авторская часть предисловия включает разностилевые элементы (см., например: книж. въкрепить уязленымъ моимъ сердце, делов. воиству служить, двадцать пять лет служить и нар.-разг. на своихъ бокахъ, въ миру жить - слезы свои векъ свой лить ). Такая пестрота стилистических средств предисловия, с одной стороны, нарушает целостность текста и затрудняет его понимание, а с другой – свидетельствует о двойственной интенции «наивного» автора – выразить искренние переживания по поводу случившихся с ним событий и соблюсти книжно-письменный «канон», который интуитивно сложился у него после прочтения ряда (скорее всего, небольшого) книжных произведений.
Любопытно использование автором сущ. тер-менъ (термин) в значении ‘срок, период’ (Свой терменъ: въ миру жить – слёзы лить свои векъ свой лить, а не если двадцать пять летъ служить). Слово термин известно русскому языку как обозначение какого-либо понятия уже с начала XVIII в.; см.: (Фасмер IV: 48). Однако не позднее середины XVIII в. (1762 год – манифест Екатерины II «О позволении иностранцам селиться в России») в русский язык проникло и нем. Termin в значении ‘время, необходимое для обучения ученика ремеслу у мастера’ (СРНГ: 44, 78; с указанием: «Слово это в ходу у кустарей-колонистов, немцев»). Попутно заметим, что нем. Termin и в настоящее время активно используется в немецком языке в значении ‘срок, дата’2. О том, что слово термин в значении ‘срок, период’ было довольно распространенным во время написания матросом Верещагиным своих Записок, может свидетельствовать его широкое употребление в указанном значении в повестях XVIII в.; ср.: «... в то же время пришел паж ее с таким повелением, дабы Алесандр в женском уборе вечеру в сад пришел королевской в назначенной термин»; «И назначила термин,.. накануне означенного термина пришед купца онаго к жене...»; «Тогда мне они каждая свой термин назначила, когда мне к ним приходить» [Русские повести… 1965: 250, 271, 273]. В русской речи XVIII в. зафиксировано и формульное сочетание урочный термин в значении ‘установленный, назначенный срок, время’; ср.: «А как урочной термин пришел, чтоб ученикам-матросам мор-шировать в Санкъпетербурх в Россию, то все матросы поехали...»; «И по урочному термину ученики матрозы все восвояси поехали…» [Русские повести… 1965: 22, 192]. Следует отметить, что сущ. термин в устаревших значениях ‘срок, период’ и ‘конец жизни’ фиксируют современные словари (Ефремова 2000: 614). Матрос Верещагин в силу своих жизненных обстоятельств: он общался в среде выходцев из разных мест, в том числе из городской среды, в которой были и иностранцы, – скорее всего, узнал и воспринял это слово как книжно-письменное, а потому посчитал необходимым в этой части Записок употребить его вместо нейтрального слова срок для того, чтобы маркировать этот фрагмент текста как соответствующий жанру письменной речи.
Неожиданной, на первый взгляд, оказалась цель повествования – наставление-призыв к родителям будущих рекрутов, выраженное в императивной конструкции Пусть оные родители по нихъ повлекутца, чтобы ихъ наставлять – и богъ ихъ не оставитъ , которая противоречит идее основной части Записок. В ней автор сетует на свою тяжелую участь матроса: см. Всякъ скажетъ: луче бы на светъ мать не рожала, лехче было бы во младенчестве уходили и т. д . Однако введение в текст Записок фрагмента с наставлением, возможно, обусловлено жанровым сознанием автора. При создании письменного текста матрос Верещагин интуитивно ориентировался на какие-то известные ему образцы письменной речи, почерпнутые им при чтении определенной литературы, и постарался выстроить свою речь в соответствии с ними.
Надо сказать, что книжные конструкции употребляются и в основной части Записок, при этом практически все они представляют собой речевые единицы, связанные с военной службой, то есть выступают маркерами деловой разновидности русского языка того периода. При этом часть из них, по справедливому замечанию М. В. Мелихова, возможно, переписана матросом Верещагиным из каких-то документов [Мелихов 2019: 79].
Результаты
Анализ текста Записок матроса Верещагина позволяет сделать вывод, что основу их повествования объективно составляют народно-разговорные, в том числе фольклорные, речевые элементы. Сосредоточение книжных речевых конструкций, формально воспроизведенных и (или) трансформированных автором, имеет место главным образом в подзаголовке и предисловии к основному тексту. Данная ситуация, с нашей точки зрения, продиктована жанровым сознани- ем автора Записок и стремлением составить текст по неким правилам, почерпнутым им, скорее всего, из какого-то текста (текстов) и воспринятым как обязательное условие при сочинении «душевного повеления».
Примечания
-
1 Здесь и далее ссылки на словари даются в круглых скобах: сокращенное наименование словаря или имя автора, далее номер тома или выпуска, после двоеточия указывается номер страницы.
-
2 Нем. der Termin в значении ‘срок, дата’ (Большой немецко-русский словарь 2010, с. 427) активно употребляется в современном немецком языке, участвует во многих устойчивых сочетаниях с ключевым словом время.
Список литературы К интерпретации книжных речевых конструкций в записках матроса Верещагина
- Володина Т. А., Подрезов К. А. Русская армия в зеркале солдатского фольклора (XVIII - первая половина XIX веков) // Новый исторический вестник. 2021. № 68(2). С. 148-173.
- Вопросы священнику // Православие^и: российский православный информационный интернет-портал. URL: https://pravoslavie.ru/34461.html (дата обращения: 07.04.2023).
- Лебедева Н. Б., Корюкина Е. А. Наивный автор как письменно-речевая личность: жанровед-ческий аспект // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2013. № 3(23). С.1-22.
- Мелихов М. В. Записки и дневники матросов К. Верещагина и А. Бобрецова как феномен народной письменной культуры // Человек. Культура. Образование. 2019. № 3 (33). С. 70-83.
- Петрунин В. О. Динамика словарного состава в деловом языке петровской эпохи (имена на -ние/-ение, -ость, -ство и -тель в юридических кодексах Древней Руси и петровской эпохи): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985. 22 с.
- Пигин А. В. Крестьянские дневники XIX-XX вв. как источники по изучению народной культуры (Дневник Г. Я. Ситниковой) // Киж-ский вестник. 2017. Вып. 17. С. 278-285.
- Пильгун М.А. Развитие имен со значением действия в истории русского языка // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2003. № 4. С. 63-71.
- Послание Иакова. Глава 5 // Русская Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/ bible/jak/5/ (дата обращения: 07.04.2023).
- Русские повести первой трети XVIII века / Исследование и подготовка текстов Г. Н. Моисеевой; Акад. наук СССР; Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). М.; Л.: Наука, 1965. 332 с.
- Судаков Г. В. Русская речь конца XVIII -начала XIX века в оценках современницы // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2013. Т. IX, № 2. С. 530-550.
- Цзинсун Гун. Причинные предлоги в разных стилях речи // Русская речь. 2017. № 3. С. 49-54.