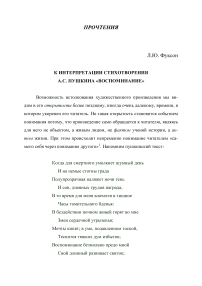К интерпретации стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание»
Автор: Фуксон Леонид Юделевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Прочтения
Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.
Бесплатный доступ
Пушкин, семантическая структура, воспоминание
Короткий адрес: https://sciup.org/14914069
IDR: 14914069
Текст статьи К интерпретации стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание»
Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И, с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю.
Вряд ли можно согласиться со следующим утверждением во многих отношениях ценной работы Л.В. Щербы, посвященной анализу стихотворения «Воспоминание»: «… я считаю нужным подчеркнуть, что все семантические наблюдения могут быть только субъективными»2. В каком-то смысле все наблюдения субъективны, так как принадлежат субъекту, наблюдателю. Но слово «только» отрицает общезначимость «семантических наблюдений» и возможность их верификации. Мы не разделяем такого герменевтического пессимизма. По-видимому, сама успешность «семантических наблюдений», которую можно назвать попросту пониманием, гарантируется лишь тем, насколько удается найти в этих наблюдениях объединяющий их принцип. При этом объективной почвой для такого искомого единства является, конечно, текст.
* * *
Семантическая структура произведения Пушкина начинает выявляться в обнаружении некоторого расхождения между готовым значением слова «день» и контекстуальным, окказиональным смыслом. В первой строке «день» символизирует всю жизнь: ведь «смертный» – это тот, чья жизнь «умолкнет», подобно «шумному дню». Конечность дня и конечность (смертность) целой жизни связаны отношениями взаимного представительства. При этом жизнь, репрезентируемая именно шумным днем, дана уже изначально в отрицательно оценочном горизонте: шум надо понимать как то, что заглушает открываемую лишь в безмолвии истину. Шум здесь – знак погруженности в беспамятство и растворенности в настоящем. Рифма день – тень репрезентирует всю ситуацию стихотворения. Звонкость слова «день» дает ощутить телесный, «шумный» план дневной жизни, в то время как тень – нечто бестелесное, синоним души. Так можно услышать переход от материального к идеальному плану бытия.
Слово «смертного» в первом стихе устанавливает больший по сравнению с обыденным масштаб: это о людях вообще. Возвышенный перифраз «человека» («смертный») придает определенную торжественность наступающему моменту: в бытовом (каждодневном) просвечивает бытийное, имеющее смысл окончательного итога. Эту же стилистически «приподымающую» функцию выполняет архаичное выражение «стогны града». Слово «стогны» уравнивает, делает неразличимыми детали улиц и площадей «града», очертания которого как бы растворяются, смешиваются. Таким образом, внешний вид передает внутреннее состояние: сон (смерть).
Определение «полупрозрачная» стирает резкость границы света и тени. Это можно объяснять географически (петербургская белая ночь) и эстетически, то есть по направлению к конкретной ситуации стихотворения: ведь бодрствование героя как раз стирает границу дня и ночи. Для героя тем самым время как бы отменяется. Но время, на первый взгляд, снимается еще и потому, что внутренне, идеально герой движется в прошлое, реальное же течение времени – переход от дня к ночи. Время и память противоположно направлены, и суть их определена в стихотворении Пушкина таким образом, что время – записывание строк жизни, а воспоминание – их чтение . Важность темы времени, как бы «отключаемого» в воспоминании, обусловлена тем, что речь идет о необратимости реальной жизни, невозможности «переписать» ее, как черновик.
Можно задаться следующим вопросом: почему здесь своя жизнь воспринимается как что-то отвратительное и печальное? (Мы в данном случае уважаем творческую волю автора, который не ввел в окончатель- ный вариант вторую часть стихотворения, начинавшуюся с «Я вижу в праздности…», и не принимаем ее в расчет).
Такое отрицательное отношение героя к жизни объясняется, по-видимому, тем, что не «труды» составили ее содержание (ведь сон – награда именно «дневных трудов »; поэтому сон здесь – спокойствие совести). Отсутствие трудов особенно печально перед лицом неизбежности смерти, так как означает бесследность, бессмысленность жизни. Вот для чего еще здесь напоминание о смертности в первом стихе. Если герой не предается сну, который определен как «дневных трудов награда», то выходит, что он недостоин такой награды.
Слово «живей» открывает здесь сложность понятия жизнь . Подразумевается активизация внутренней душевной работы в связи именно с «бездействием ночным», которое открывает «строки печальные», а дневной «шум» – наоборот – скрывает, отвлекает от печальной в своей бессмысленности сути жизни. «Бездействие ночное» оживляет активность совести («змеи сердечной угрызенья»). Образ змеи ассоциируется здесь с длинным «свитком» воспоминания. Кроме того, змея – олицетворение знания, печальной истины (ср.: «жало мудрыя змеи», появляющееся на месте вырванного «грешного» языка).
Жалобы и слезы суть свидетельства несовпадения действительного и должного, желаемого; несовпадения наличного бытия («жизни» как она «записана», прожита; жизни как уже-жизни) и смысла, о котором напоминает «змея сердечная».
«Бездействие ночное» – момент самопогружения, когда жизнь меняет направление от «естественной» установки к интроспективной. Отклю-ченность от действительности включает измерение возможности или как чего-то предстоящего («Мечты кипят…»), или как чего-то безвозвратно упущенного («И горько жалуюсь, и горько слезы лью…»).
Как это вытекает из самой ситуации воспоминания, описываемое состояние осмысливается и оценивается лишь «на фоне» предшествующего. Отсюда нижеследующая схематичная ценностно-смысловая разметка произведения как художественного единства:
|
день |
ночь |
|
прошедшее |
настоящее |
|
шум |
тишина |
|
труды (их отсутствие) |
сон (думы) |
|
действие |
бездействие |
|
жизнь |
воспоминания (мечты) |
|
запись |
чтение |
|
действительное |
возможное, должное |
|
реальное |
идеальное |
|
внешнее |
внутреннее |
Схематично развернутые моменты лирической ситуации произведения Пушкина соотносятся не просто как хронологически сменяющие друг друга, но как противоположно направленные реальное течение жизни и идеальное развертывание судящего ее воспоминания.
В стихотворении речь идет не столько о содержании какого-то определенного воспоминания (может быть, как раз этим объясняется невключение в окончательный вариант второй половины стихотворения), сколько о самом процессе воспоминания как таковом, об оглядке на прожитое, о помещении жизни в идеальный, ретроспективный план, в горизонт суда совести.
Смысл воспоминания глобальный: им гарантируется смысловое единство личности, о чем напомнила Р.А. Гальцева в статье «Поэт и царь Давид»3. Связь и преемственность прошлого и настоящего состоит не обязательно в «согласии», в мысленном одобрении того, что прошло, но и в отвращении, в проклятии. Ведь все это – жизнь моя. Так читатель подходит к закономерности последнего стиха. Смывание «строк печальных» означало бы не просто забвение прошлого – самих строк, – но и печали, интонации удерживающего воспоминания. Воспоминание хранит длящееся я, которое лишь и связывает таким образом время в единство смысла. Время с такой точки зрения есть преемственность, традиция, передача, то есть не пустая длительность, а длительность чего-то (кого-то). Такая передача как верность себе и есть залог хранения, пребывания смысла. Отсюда проистекает нравственная роль памяти – того, что удерживает передачу самого себя. Разрыв этой преданности есть предательство: я нынешний не имею ничего общего с тем – уже-не-я, окончательно прошлым.
Если я-воспоминаемый и я-воспоминающий суть совершенно разные люди (а к этому приводит уничтожение, «смывание» отвратительного и проклинаемого прошлого), то единство «я» рассыпается. Сохранить себя как виновного означает сохранить свое обвинение и себя как такового. Ведь быть личностью, в отличие от бытия индивидом, – это брать на себя ответственность, то есть, как говорит Г. Марсель, «смело идти навстречу своему прошлому»4.
Таким образом, не смываемые «строки печальные» – это выражение объединения прошлого и настоящего, реальной жизни и идеальной душевной требовательности, печалящейся об этой жизни. Процесс воспоминания не останавливает «поток» реального времени, так что живший оказывается в описанный момент якобы не живущим, а лишь вспоминающим. Эта жизнь, судящая свое прошлое, не прерывается, а освещается светом смысла, совести.
-
1 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995. С. 25.
-
2 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 28.
-
3 Гальцева Р.А. Поэт и царь Давид // Новый мир. 1999. № 6.
-
4 Марсель Г. Опыт конкретной философии. М., 2004. С. 95.
Список литературы К интерпретации стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание»
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995. С. 25.
- Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 28.
- Гальцева Р.А. Поэт и царь Давид//Новый мир. 1999. № 6.
- Марсель Г. Опыт конкретной философии. М., 2004. С. 95.