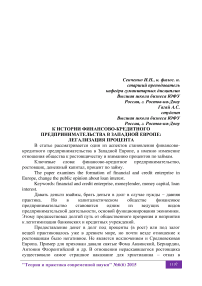К истории финансово-кредитного предпринимательства в Западной Европе: легализация процента
Автор: Сенченко И.Н., Гагай А.С.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из аспектов становления финансово-кредитного предпринимательства в Западной Европе, а именно изменение отношения общества к ростовщичеству и взиманию процентов по займам.
Финансово-кредитное предпринимательство, ростовщик, денежный капитал, процент по займу
Короткий адрес: https://sciup.org/140266759
IDR: 140266759
Текст научной статьи К истории финансово-кредитного предпринимательства в Западной Европе: легализация процента
Давать деньги взаймы, брать деньги в долг в случае нужды – давняя практика. Но в капиталистическом обществе финансовое предпринимательство становится одним из ведущих видов предпринимательской деятельности, основой функционирования экономики. Этому предшествовал долгий путь от общественного презрения и неприятия к легитимизации банковских и кредитных учреждений.
Предоставление денег в долг под проценты (в рост) или под залог вещей практиковалось уже в древнем мире, но почти везде отношение к ростовщикам было негативное. Не является исключением и Средневековая Европа. Пример для прихожан давали святые Фома Аквинский, Бернардин, Антонин Флорентийский и др. В отношении нераскаявшегося ростовщика существовало самое страшное наказание для христианина – отказ в причастии Святых Даров и запрет на погребение в освященной земле. Однако, в реальной жизни, несмотря на суровые кары и запреты, ростовщические практики имели достаточно широкое распространение. Эти практики носили специфический характер, далекий от экономической стратегии. Используя современную терминологию, средневековый кредит можно охарактеризовать как потребительский. Но если современный потребительский кредит способствует оживлению торговли, и в конечном счете инвестируется в производство, то средневековый кредит лишь косвенно влиял на экономику, поскольку основным заемщиком выступал государь, который покрывал за счет кредита пустующую казну и недоборы налогов. Государи нуждались в деньгах на ведение бесконечных войн, выплату жалованья солдатам и приобретение предметов роскоши. Поведение королей-должников доходило до анекдотического. Французский король Карл VII слыл большим любителем золотого оружия, дорогих восточных тканей. На удовлетворение своего интереса тратил большие деньги, а после клянчил мелкие суммы даже у своих поваров, и вынужден был занимать на еду [1].
Специфичны для Средних веков не только фигуры кредиторов и заемщиков, но и поведение этих финансовых агентов. Поскольку основными заемщиками были светская и духовная знать, а кредиторы были заведомо ниже по положению и власти, то долги часто не выплачивались вовсе. Периодичесие изгнания и избиения евреев и ломбардов (основных кредиторов Средневековья) позволяли производить полную ликвидацию долгов вместе с кредиторами. Высокопоставленные «плохие заемщики» брали новые кредиты силой, используя угрозы. Кредиторы пытались подстраховаться множеством поручителей (вплоть до папы римского) и залогом драгоценностей и реликвий. Короли отдавали короны, парадные одежды, папа – тиару и т.д. Английский король Генрих III умудрился даже заложить церковные реликвии св. Эдуарда. Папа под угрозой отлучения от церкви требовал от своих епископов и аббатов уплаты долгов (к нему обращались кредиторы со слезными просьбами). Гродские советы на территории которых жили обиженные кредиторы, прибегали к практике захвата заложников для возврата долга. Аресту подвергали любого путешественника, земляка «плохих» должников и не отпускали их, пока не поступят выплаты от должников. Но правила меняются, как только возникает экономическая потребность в развитии коммерческого, торогового кредита.
По общим объемам денежной массы и в натуральном выражении в Средневековой Европе господствовала внутренняя торговля (зерно, соль, шерсть и т.д.), а не внешняя торговля (пряности, перец, золото, серебро). Аббат Мабли говорил «Торговля зерном лучше, чем Перу». Зерно в морской торговле Средиземноморья в XVI в. составляло около миллиона центнеров, т.е. менее 1% потребления народов этого региона – ничтожная доля по сравнению с местной торговлей. Но в формировании предпринимательских стратегий именно морская торговля на дальние расстояния занимала одно из первых мест, т.к. позволяла в течение 1-5 месяцев увеличить исходный капитал в несколько раз. Крупная оптовая торговля требовала крупных кредитов, а значит, заимодавец становится важнейшей и необходимой фигурой экономического процесса. Возникает противоречие между социально-экономической необходимостью и религиозной идеологией, ведь религиозный запрет и религиозные санкции в отношении ростовщичества никто не отменял, а значит, важную экономическую функцию исполнять просто опасно. Спонтанно сложились следующие стратегии преодоления препятствий:
-
1. Привлечь тех, кто способен и может выполнять данную функцию. По сути дела, единственной социальной группой, которая могла легально заниматься ростовщичеством, были евреи. С одной стороны, давать деньги в рост им позволяли особенности вероучения: «с иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости» [2]. С другой стороны, маргинальность положения иудеев в христианской Европе не давала возможности заниматься иными видами деятельности (политика, наука и образование, общественная деятельность). Они давно занимались ростовщичеством, подвергаясь угрозам расправы, погромов, изгнаний. Но теперь их положение укрепилось. Уместно привести слова венецианского дворянина, произнесенные в 1519 г.: «И ежели бы я, Марино Сануто, был в составе Сената, как в прошлом году... я выступил бы с речью... дабы доказать, что евреи столь же необходимы, как и булочники» [3]. Примерно с XV в. евреи монополизировали кредитно-финансовую деятельность в Италии.
-
2. Замаскировать процент под нечто безобидное. Так возник ростовщический «сухой обмен» фиктивными векселями, не перемещавшимися с одного рынка на другой, служивший, в действительности, для маскировки займа под проценты. В долговых расписках указывали не сумму выданных денег, а сумму, которую собираются получить, избегая слова «рост». Иногда указывали в документах «вознаграждение за оказанные услуги», иногда писали «подарок».
-
3. Замаскировать реальное распределение ролей. Например, взятый на службу еврей был фиктивным кредитором, а его господин дворянин-христианин был реальным заимодавцем, оставаясь в тени.
Таким образом, многообразие хитроумных способов прикрытия процента позволяло всему христианскому обществу заниматься ростовщичеством. Постепенно изменившиеся практики закрепляют в общественном сознании если не позитивный, то приемлемый образ финансового предпринимателя. Об этом свидетельствует, в первую очередь, легализация слова «рост» в обыденном языке, использование его без уничижительного смысла. В переписке и документах предприниматели указывают подлинную сущность займа, снижая риски невозврата кредита. И хотя продолжают существовать законы, запрещающие процент (вплоть до XVIII в., в обыденном сознании исчезает страх не только судебного, но и посмертного преследования. Угроза похорон без покаяния и причастия заставляла ростовщиков на смертном одре раздавать большую часть накопленного имущества, чтобы облегчить собственную участь и судьбы наследников. Но уже к 1330 г. из нотариальных актов и завещаний исчезают случаи возмещения процентов, что свидетельствует об исчезновении в сознании сомнений и угрызений совести в отношении финансовой деятельности.
Список литературы К истории финансово-кредитного предпринимательства в Западной Европе: легализация процента
- Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. -Челябинск: Социум, 2004. -С.396.
- Ветхий Завет. Втор.15:3.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм, XV-XVIII вв. Т.2. Игры обмена. -М.: Издательство «Весь мир», 2007. -С.576.