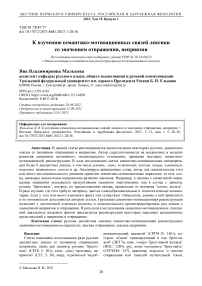К изучению семантико-мотивационных связей лексики со значением отвращения, неприязни
Автор: Малькова Яна Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается происхождение некоторых русских диалектных лексем со значением отвращения и неприязни. Автор сосредоточивается на механизмах и моделях развития семантики негативного эмоционального отношения, применяя методику семантико- мотивационной реконструкции. В ходе исследования дается семантико-мотивационная интерпретация более 9 диалектных лексем, в том числе рачить, гляно, челядинный, чёмкий, чмыра, чмониться, торомко, приторомко, назола и др. Анализируя приведенные слова, автор для доказательства того или иного исследовательского решения приводит семантико-мотивационные параллели, то есть слова, имеющие аналогичное направление развития значения. Например, в лексике с семантикой отвращения, неприязни оказывается продуктивным механизм энантиосемии, как в случае с ленингр. ра́чить ‘брезговать’, которое, по предположению автора, происходит от значения ‘хотеть, желать’. В ряде случаев, где того требует материал, даются словообразовательные и этимологические комментарии. Если у того или иного языкового факта уже существует этимология, данные о ней приводятся и по возможности дополняются автором статьи. Групповая семантико-мотивационная реконструкция позволяет с достаточной степенью полноты и доказательности проинтерпретировать ряд лексем с семантикой неприязни и отвращения. В результате исследования семантико-мотивационных отношений диалектных языковых фактов предлагается реконструкция некоторых народных традиционных представлений о неприязни и отвращении.
Русская диалектная лексика, семантико-мотивационная реконструкция, семантико-мотивационные параллели, лексика отвращения, лексика неприязни
Короткий адрес: https://sciup.org/147240441
IDR: 147240441 | УДК: 81’28:81’37 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-1-28-36
Текст научной статьи К изучению семантико-мотивационных связей лексики со значением отвращения, неприязни
Статья посвящена исследованию ряда русских диалектных лексем со значением отвращения, неприязни, таких как ленингр. ра́чить ‘брезговать’ (СРГК 5: 201), смол. гля́но ‘противно, неприятно’ (ССГ 3: 36), морд. челя́динный ‘недоб- рожелательный, вредный’ (СРГМ II: 1461), костром. чё́мкий ‘привередливый в еде, брезгливый’ (ЛКТЭ), новг. чмы́ра ‘брезгливый человек’ (НОС: 1284), рус. коми чмо́ниться ‘брезговать’ (СРГКПО: 347), краснояр. то́ромко ‘о чувстве отвращения или тяжелой мучительной тоски,
испытываемой кем-л.’ (СРГЦРКК 4: 255), перм., волог., яросл. приторомко ‘противно, неприятно’ (СРНГ 32: 23), твер. назо́ла ‘неприязнь’ (СРНГ 19: 287–288) и некоторых других, привлекаемых автором для сравнения.
Целью работы является прояснение происхождения названных слов, а также реконструкция некоторых народных представлений о негативном эмоциональном отношении, стоящих за приведенными языковыми фактами. Статья продолжает ряд работ автора, посвященных этимологизации и семантико-мотивационной реконструкции русской диалектной лексики со значением неприятия (ср., например, [Малькова 2021а, 2021б]).
Интерес к названной группе слов объясняется несколькими причинами. Во-первых, как кажется, большинство из указанных выше лексем до сих пор не были исследованы учеными, а потому требуют этимологической и семантико-мотивационной интерпретации. Отметим при этом, что часть слов уже была рассмотрена в литературе, однако в таком случае автором статьи предлагаются дополнения к опубликованным этимологиям. Во-вторых, в данной работе будут освещены некоторые языковые факты из лексической картотеки Топонимической экспедиции УрФУ. Таким образом, в научный оборот будет введен уникальный полевой материал.
Методы и материал исследования
В ходе исследования использована методика семантико-мотивационной реконструкции [Бере-зович 2014: 5–31]. Под данной методикой понимается комплекс исследовательских действий, которые осуществляются для прояснения мотивации слов и стоящих за ними представлений людей о мире [там же: 7]. Поскольку мы рассматриваем группу лексики, объединенную общей семантикой, особую роль играет определение семантико-мотивационных параллелей. Последние представляют собой лексические ряды, «демонстрирующие сходные модели смыслового развития слов, в рамках которых воспроизводится как собственно переход значения, так и его мотивация» [там же: 13]. Данная методика используется в большом числе работ, ср., например, только некоторые из них [Борисова 2016; Едалина 2015; Кучко 2017; Сурикова 2016; Тихомирова 2013 и мн. др.].
Материалом для исследования послужат русские диалектные слова, зафиксированные в лексикографической литературе, а также в полевых картотеках, о чем было сказано выше.
Оговорим принципы отбора слов для совместного рассмотрения. В данной статье мы остановимся на двух группах лексики – со зна- чением неприязни и со значением отвращения. Позволяет объединить эти слова в рамках одной работы, во-первых, близость их семантики: все они обозначают негативное эмоциональное отношение. Неприязнь трактуется в лексикографической литературе как ‘нерасположение, недружелюбное, враждебное отношение к кому-, чему-л.’ (ССРЛЯ 7: 1106). В поле внимания также окажутся лексемы, обозначающие носителя неприязненного отношения, а именно слова с идеограммой ‘недоброжелательный’; недоброжелательный же в словарях литературного языка определяется как ‘содержащий, выражающий неприязнь, недружелюбие’ (там же: 803–804). Для второй группы изучаемой лексики ключевым является слово отвращение ‘сильное чувство неприязни, соединенной с брезгливостью; гадливость, омерзение’ (ССРЛЯ 8: 1300). Таким образом, семный состав слов подтверждает близость рассматриваемых понятий. К лексическому множеству «Отвращение» относятся также слова, называющие чувство отвращения, а именно брезговать ‘испытывать отвращение, гадливость (обычно о пище и напитках)’ (ССРЛЯ 1: 621– 622), противно, неприятно ‘о чувстве отвращения’; слова, называющие человека, который испытывает омерзение, – брезгливый ‘испытывающий отвращение, гадливость к чему-, кому-либо’ (ССРЛЯ 1: 622); слова, именующие объект неприятия, а именно противный ‘очень неприятный, отвратительный’ (ССРЛЯ 11: 1453), неприятный ‘не нравящийся (своими качествами, свойствами и т. п.’) (ССРЛЯ 7: 1108).
Еще один фактор, который позволяет рассматривать обозначенные группы лексики вместе, – это общность множества существующих в рамках этих слов семантико-мотивационных моделей, о чем подробно будет сказано далее.
Рачить
Обратимся к ленингр. ра́чить ‘брезговать’: Наоборот, их ра́чу в руки брать, убиваю и оставляю так (СРГК 5: 201). На той же территории встречаются следующие значения: ленингр. ра́чить ‘хотеть, желать’, ‘проявлять заботу о ком-, чем-н.’, ‘проявлять усердие, старание’, ‘жалеть’, ‘использовать, употреблять’ (там же).
Выявить непосредственно мотивирующее значение и выстроить мотивационные отношения позволяет обращение к другим лексемам, называющим брезгливость. В частности, применительно к этой лексике можно говорить о продуктивности энантиосемии. В качестве примера можно привести, например, вят. хвалю́ шить ‘брезгать’ (ОСВГ 11: 222), которое связано с общерус. хвалить. При помощи энантиосемии образуются также обозначения объектов отвраще- ния: волог. добре́дный ‘неприятный’: Такого кто добредным, кто страшным назовёт ← ‘красивый, имеющий приятную наружность’ (СГРС 3: 230), пск. благой́ ‘неприятный, дурной (о запахе)’: Я и ню́хать духи́ ня бу́ду, гара́с благи́е ← ‘плохой’ (ПОС 2: 27), ср. общерус. благо́й.
Думается, что для ленингр. ра́чить ‘брезговать’ (СРГК 5: 201) в качестве мотивирующего можно рассматривать значение ленингр. ра́чить ‘хотеть, желать’: Я не ра́чила ее будить, жалко было, пусть спит (там же). Сопоставлять эти значения, как кажется, позволяет семантика желания / нежелания контактировать с кем-, чем-л., ср. определение слова брезговать в «Активном словаре русского языка»: А1 брезгает А2 ‘Человек А1 испытывает при контакте с объектом А2 очень неприятное ощущение, какое бывает при контакте с продуктами жизнедеятельности других существ, и избегает таких контактов ’ (АС 1: 350) (выделено нами. – Я. М. ).
Идея нежелания присутствует во внутренней форме и некоторых других слов с семантикой негативного эмоционального отношения, например, в сев.-вост. мечта́тый ‘уродливый, некрасивый, неприятный’ (Зотов 2010: 272), ср. общерус. мечтать ; этимологическое значение диалектной лексемы можно условно сформулировать как ‘такой, о котором не мечтают, т. е. которого не желают’ (также при включении механизма энантиосемии). Другой пример – это арх. безжела́нной ‘недоброжелательный’ (АОС 1: 148), ср. без желания . Если человек плохо настроен к кому-, чему-либо, то он не хочет контактировать с объектом своего неприятия.
По-видимому, существует особый устойчивый механизм возникновения подобных слов, которые могут обозначать как положительное, так и отрицательное эмоциональное отношение. Так, А. Д. Шмелев пишет о способе развития значения, когда противоположные значения развиваются у слов, содержащих яркую эмоциональную оценку [Шмелев 2009: 193]. Вероятно, с подобным механизмом мы сталкиваемся и в рамках лексики со значением брезгливости, недоброжелательности, которая также характеризуется эмоциональной выразительностью и яркой оценочностью.
Гляно
Рассмотрим смол. гля́но ‘противно, неприятно’: Гляна сматреть на их дом (ССГ 3: 36).
Данная лексема принадлежит обладающему активностью в рамках эмоциональной лексики соматическому коду. В частности, здесь множество слов и фразеологизмов образуется от лексем, обозначающих глаза и зрение, ср., например, р. Урал глаз воротит ‘очень невкусно, вы- зывает отвращение, очень неприятно’ (СГУК 1: 262), прикам. не принима́ть на глаза́ кого, что ‘испытывать сильную неприязнь к кому-л., отвращение к чему-л.’ (БСРП: 124), волгогр. не ви́дел бы на све́те кого-л. ‘кто-л. не нужен, опротивел’ (СДГВО 1: 251). Однако, как можно отметить, во всех этих лексемах являет себя идея прерывания зрительного контакта, нежелания смотреть на то, что вызывает неприятные ощущения. О распространенности этого мотива в рамках эмоциональной лексики писала М. В. Ясинская, отмечая, что красивые предметы приятны взгляду, они вызывают желание смотреть на себя и потому приобретают «зрительную» семантику. «Ненависть действуют противоположным образом: объект становится неприятным, отвратительным для глаз», ср. ненавидеть, видеть не могу, смотреть не хочется и др. [Ясинская 2015: 84].
В случае со смол. гля́но ‘противно, неприятно’ (ССГ 3: 36) обращает на себя внимание то, что данная лексема будто бы нарушает названную модель. Неприятное должно отвращать от себя, подавлять желание смотреть на себя, ср. однокоренные слова с префиксом не- : перм. не-гляде́н ‘о человеке, на которого неприятно глядеть’, негляде́нка ‘о женщине, на которую неприятно глядеть’ (СГдА 3: 64). Префиксальный и беспрефиксальный варианты могут даже встречаться в одном контексте: смол. гля́но ‘противно, неприятно’: Гляно сматреть, никрасивыя, ниха-рошыя, ниглядные деука (выделено нами. – Я. М. ) (ССГ 3: 36) . Таким образом, по-видимому, можно говорить о том, что данная лексема также была образована с помощью механизма энан-тиосемии.
Нужно отметить, что в рамках лексики со значением отвращения мы уже рассматривали еще одну лексему, которая содержит «зрительный» образ, но при этом обозначает неприятного человека, – влад. озоро́чье ‘противный человек, нелюбимый муж’ (СРНГ 23: 100). Это слово, по-видимому, образовано от пск., олон., том. зоро́к ‘зрачок’ с помощью префикса о- и суффикса -j- (словообразовательное значение – ‘нечто прилегающее к тому, что названо мотивирующим словом’). Во внутренней форме же заложена идея того, что неприятное, некрасивое привлекает к себе особое внимание (см. об этом: [Малькова 2021б]). Вероятно, данная мотивационная линия может просматриваться и для смол. гля́но.
Челядинный
Обратимся к морд. челя́динный ‘недоброжелательный, вредный’: Сасеткъ – чилядинный чилавек, никаму дабра ни зделът (СРГМ II: 1461). Возможно, данная лексема связана с морд. челяда́ ‘детвора’ (там же). Развитие значения же, вероятно, шло через промежуточное звено в приблизительно следующем направлении: ‘компания детей’ → ‘о шумном скоплении людей’ → ‘о недоброжелательных, неприятных людях’. Ср. контекст морд. челяда́ ‘детвора’: Тепло будит, фся чъляда на ульцы будит (там же), а также показательные в плане семантики фиксации на другой территории: новг. челя́да ‘подростки’: Вон челяда по деревне шатаются, бездельничают; ‘группа, кучка’: Только бы челядой и ходили, больше ничего не знают (НОС: 1271)1.
Отметим при этом, что значения ‘компания детей’ и ‘шумное скопление людей’ часто соседствуют в пределах одной лексемы, ср. костром. о́шошь ‘ватага детей’: Маленькие ребята толпой ходят, кто маленький, кто большой – ой, какая ошошь идёт! и ‘сброд, негодные люди’; Настоящая самая ошошь! Опять собрались бездельники и мелкие хулиганы ; костром. гребе́тина ‘орава детей’: Вон гребе́тина вся сошлася, чего-нибудь устроили; Гребе́тина вон по деревне бегает и ‘большая компания’: Как вот ходят теперь по деревням, и всё собираются кучей, и спать не дают – ходит гребе́тина такая, безобразный народ (ЛКТЭ).
Итак, импульсом для развития значения становится негативное отношение в культуре к шумному, неспокойному поведению. Такие воззрения заложены также, по-видимому, в ср.-урал. оха́верно ‘противно, грязно’ (СРГСУ 3: 97), которое сопоставляется со ср.-урал. оха́ве́рничать ‘безобразничать, хулиганить’: Делом не занимаются, им бы только охаверничать (СРГСУ/Д: 387), оха́верник ‘нахал’: Охаверник такой глаза бы не глядели (СРГСУ 3: 97).
Чёмкий, чмыра, чмониться
Рассмотрим семантически близкие слова костром. чё́мкий, чо́мкой ‘привередливый в еде, брезгливый’: Я тоже чё́мкая, у людей не поем ; Которой не всё ест – чо́мкой, экой барин (ЛКТЭ), новг. чмы́ра ‘брезгливый человек’: Чмыра ты, капризничаешь всё, не ешь, что дают (НОС: 1284), рус. коми чмо́ниться ‘брезговать’: Она не кержачка. Чмонится просто из чужой тарелки есть (СРГКПО: 347).
Как кажется, данные лексемы имеют звукоподражательное происхождение. Для костромских слов чё́мкий, чо́мкой можно предположить производность от костром. чёмканье ‘чмоканье’, чомконье ‘чавканье’: Едят, только чомконье стоит (ЛКТЭ), костром. чё́мкать ‘чмокать’: А я, видно, чё́мкаю на кухне [сосёт палец], чо́мкать ‘чавкать, громко есть, жевать’: Кто плохо жует, чо́мкает, как поросенок, ест дак причомкивает (там же). Новгородскую лексему чмы́ра можно соотнести с новг. чмя́кать ‘жевать громко, при- чмокивая губами; чавкать’: Они всё чмякают, как едят-то, ‘издавать чавкающие звуки’ (НОС: 1284). Суффикс -ыр- при этом зачастую оформляет лексемы со значением лица, ср. забай-кал. зуды́ра ‘человек, причиняющий беспокойство’ (СРНГ 12: 21) (← зудеть), смол. колоты́ра ‘человек, который назойливо клянчит, вымогает что-либо; попрошайка’ (СРНГ 14: 186) (← колотиться), ряз. мотыра ‘непоседа, егоза, юла’ (СРНГ 18: 307) (← мотаться). Наконец, в чмо-ниться вставное -он- может возникать по фонетическим причинам, ср., например, волог. Пы́с-кать и волог., яросл. пы́сконить, арх. пыско́нить ‘разбрасывать что-либо в стороны, трусить, сорить’ (СРНГ 33: 200); твер., пск., перм. напру́дить, твер., пск. напруди́ть ‘намочить, налить, наделать луж’ и калуж. напрудо́нить ‘мочась, налить’ (СРНГ 20: 105); костром. забу-ри́ть ‘стать бурым, загореть’ (СРНГ 9: 283) и пск., твер. забуро́нить ‘то же’ (там же: 284).
Поскольку лексемы чё́мкий, чо́мкой, чмы́ра, чмо́ниться называют брезгливых людей и их поведение, можно предположить, что во внутренней форме заложено представление о действиях испытывающих отвращение людей, когда они «чмокают», «цыкают», выражая недовольство. Такой мотив вообще является достаточно распространенным в рамках данного лексического множества, ср. сарат. забя́кать ‘сделать гримасу, выражая отвращение к чему-либо’ (там же: 280) звукоподражательного происхождения, пск. бу-ча́йный ‘брезгливый’ (ПОС 1: 225) ← бучать (глагол, по мнению А. Е. Аникина, восходит к праславянскому звукоподражательному *bučati со значениями ‘шуметь’, ‘плакать, хныкать’ [Аникин РЭС 5: 255]), волог. чихво́стный ‘испытывающий отвращение к нечистоплотности, брезгливый’ (СВГ 12: 49), ср. прост. чихво́стить ‘ругать’ и др.
Торомко, приторомко
Рассмотрим краснояр. то́ромко ‘о чувстве отвращения или тяжёлой мучительной тоски, испытываемой кем-л.’: Торомко мне чё-то стало. Наверно, слихотит 2; Ну чё пристал? Торомко уж от тебя (СРГЦРКК 4: 255).
Думается, что данная лексема содержит в себе корень -тер-/-тор- (ср. рус. тереть, проторен-ный 3), а также инфикс -ом- . В таком случае можно предположить перенос ‘о трении’ → ‘о неприятном телесном ощущении, вызываемом трением’ → ‘о чувстве отвращения’, который отражает представления о физиологическом дискомфорте, сопряженном с отвращением.
Отметим, что такой тип переноса в принципе частотен для слов со значением отвращения, в этом лексическом множестве устойчиво реали- зуется соматический код, а именно мотивационная модель, в рамках которой происходит перенос от наименования телесных тактильных ощущений к номинации эмоционального состояния. Ср., например, новосиб. ободра́ть ‘произвести неприятное, отталкивающее впечатление; покоробить’ (СРНГ 22: 156), волг. оскомина берёт кого ‘кому-л. надоело, неприятно что-л.’ (БСРП: 467), арх., перм. отру́тить ‘отвратить; опротиветь’ (СРНГ 24: 304–305) ← тру́тить ‘гнести, жать, давить, тереть’ (Даль 4: 438)4, твер. натруди́ть ‘надоесть до крайности, вызывая отвращение’ (Селигер 4: 86) ← пск., твер. труди́ть ‘повреждать, натирать что-л.’ (СРНГ 45: 155) и др.
Однако выскажем еще одно предположение. Дело в том, что на красноярской территории функционирует формально близкая к то́ромко ‘о чувстве отвращения или тяжёлой мучительной тоски, испытываемой кем-л.’ лексема, а именно при́торомко ‘приторно’ (СРГЦРКК 3: 352)5. И. А. Горбушина, рассматривая литер. приторный , а также близкое ему приторомкий , с опорой на размышления М. Фасмера, В. И. Даля и Ф. И. Рейфа, относит эти слова к гнезду глагола тереть с переносом семантики «тактильных ощущений (плотное соприкосновение, раздражение, вызванное трением, ср. ботинок трёт ) на вкусовые (чрезмерная сладость или жирность)» [Горбушина 2016: 160]. В таком случае можно предположить контаминацию краснояр. торомко и приторомко.
Интересно, что слова приторно и приторомко в диалектах могут обозначать не только сладость пищи. Так, встречаем том., смол. при́торно ‘противно, неприятно’ (СРНГ 32: 23), перм., волог., яросл. приторомко ‘противно, неприятно’ (там же), волог. при́торошно ‘неприятно’ (СРГК 5: 215), смол. при́торный ‘противный, неприятный’ (СРНГ 32: 23). Попытка семантико-мотивационной интерпретации данных языковых фактов приводит к вопросу: какая идея послужила мотивирующей для семантики отвращения – вторичная идея сладости пищи или же этимологически первичная для корня идея трения?
Полагаем, что в данном случае необходимо учитывать территориальную привязку лексем. Так, обнаруживаем широко распространенные варианты слов со вставным -ом-: том., челяб., свердл., КАССР, олон., курган., иркут., мурман. при́торомко, волог., яросл., свердл., заонеж. приторо́мко, север., новг., тобол. приторомко [удар.?] ‘очень сладко, приторно’, яросл., перм., тюмен., свердл., заурал., забайкал., якут. при́торомкий, якут. приторомко́й ‘приторный’ (там же). Общенародное приторный ‘слишком сладкий’ тоже, как кажется, могло оказывать влияние. Таким образом, вероятно, можно говорить о том, что для семантики отвращения том., смол. при́торно, перм., волог., яросл. прито-ромко (там же), волог. при́торошно ‘неприятно’ (СРГК 5: 215), смол. при́торный ‘противный, неприятный’ (СРНГ 32: 23) мотивирующими выступают «вкусовые» значения: во внутренней форме запечатлевается представление об объекте омерзения, в данном случае чрезмерно сладкого вкуса.
Назола
Обратимся к твер. назо́ла ‘неприязнь’ (СРНГ 19: 287–288). Этимологию данного слова предложила Л. В. Куркина. По ее мнению, праслав. *nazola , продолжением которого является твер. назола , являет собой образование от *nazoliti ‘посыпать золой, пеплом’. «В народной медицине зола использовалась как лечебное средство: золой, пеплом посыпали рану, пепел прикладывали к ушибленному месту и т. п. …Праслав. диал. *nazoliti в значении ‘посыпать пеплом, золой и т. п. с лечебными целями’ <…> стало отправной точкой семантического развития в направлении ‘раздражать рану, воздействуя на нее пеплом и т. п.’ > ‘вызывать боль, тревожить, беспокоить’ <…> отсюда – ‘досада, огорчение; тоска, печаль’ и ‘беспокойный человек, человек, вызывающий раздражение’» [Куркина 1995: 278–280].
Для твер . назола ‘неприязнь’ мотивирующей, вероятно, является идея телесного воздействия, то есть семантика причинения дискомфорта. Негативное эмоциональное состояние, вызванное контактом с кем-л. отталкивающим, уподобляется неприятному тактильному ощущению. Некоторые семантико-мотивационные параллели были приведены в предыдущем разделе, здесь же добавим лексику со значением неприязни: новг. щекотли́вый ‘вызывающий неприязнь своим поведением’ (СРГК 6: 927), арх., южн.-сиб., сиб., иркут., карел., арх. отсту́да ‘охлаждение в отношениях, разлад, неприязнь’6 (СРНГ 24: 326) и др.
Результаты
Итак, нами был рассмотрен ряд лексем с семантикой отвращения, неприязни. Подход к исследованию материала в русле системной этимологии и групповой семантико-мотивационной реконструкции позволяет с достаточной точностью и полнотой выстроить линии развития значения избранных для анализа лексем.
Поскольку нами для рассмотрения были выбраны отдельные слова (а не лексические множества целиком), невозможно выделить исчерпывающий список механизмов и моделей развития значения лексики с семантикой неприятия.
Тем не менее укажем на часть из них, которые нашли отражение в рассмотренном материале.
В статье был затронут такой механизм развития значения, как энантиосемия, действующий в процессе формирования семантики ленингр. ра́чить ‘брезговать’, смол. гля́но ‘противно, неприятно’. Во внутренней форме слов могут фиксироваться обозначения черт поведения, характерных, по народным представлениям, для носителей обеих эмоций, о чем говорит реконструкция семантических переходов для морд. че-ля́динный ‘недоброжелательный, вредный’, костром. чё́мкий ‘привередливый в еде, брезгливый’, новг. чмы́ ра ‘брезгливый человек’, рус. коми чмо́ниться ‘брезговать’. Мотивирующей для идеи отвращения, неприязни выступает семантика неприятного телесного воздействия, когда эмоциональные и физиологические ощущения сопоставляются, ср. краснояр. то́ромко ‘о чувстве отвращения или тяжёлой мучительной тоски, испытываемой кем-л.’, твер. назо́ла ‘неприязнь’. Наконец, еще одна модель, проявившая себя в рамках исследованной лексики, – это наименование отвращения с помощью обозначений неприятного вкуса пищи, как в яросл. при-торомко ‘противно, неприятно’.
Примечания
-
1 При этом значения, связанные с называнием детей, первичны в этимологическом отношении: праславянской основой *čel- (ср. русск. диал. че́лядь ‘мальчики, дети, малолетние’) «обозначался младший, меньший член рода, семьи» (ЭССЯ 4: 41).
-
2 Краснояр. слихо́тить ‘стошнить’ (СРГЦРКК 4: 133).
-
3 О чередовании е/о в корне см.: [Горбушина 2016: 145–157].
-
4 Кратко прокомментируем направление развития значения. Глагол трути́ть ‘давить, толкать’ возводится к *trǫtъ , в котором видят *tronkto , сопоставляемое с лит. trañksmas ‘гул, давка’, trenkiù, treñkti ‘ударить с грохотом’ (*‘теснить’), др.-сакс. tringan ‘давить, теснить’ [Фасмер 4: 110–111]. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что этимологическая семантика корня связана с идеей трения.
-
5 Отметим, что она имеет вообще довольно широкое распространение в русских диалектах: яросл., том., кемер., сиб., курган., челяб., свердл., олон., волог., заонеж., тобол., иркут., мурман. при́-торо́мко ‘очень сладко, приторно’ (СРНГ 32: 23).
-
6 Мотивационно значимым, вероятно, является также то, что при холоде возникают неприятные телесные реакции.
Список литературы К изучению семантико-мотивационных связей лексики со значением отвращения, неприязни
- Аникин РЭС - Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. М.: Рукописные памятники Древней Руси: Знак: Нестор-История, 2007-. Вып. 1-.
- Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М.: Русский Фонд содействия образованию и науке, 2014. 488 с.
- Борисова Е. О. Русская лексика со значением быстроты и медлительности в семантико-моти-вационном аспекте: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2016. 306 с.
- Горбушина И. А. Словообразовательное и этимологическое гнёзда слов от праславянского корня ^ег- в русском языке на славянском фоне: дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. 323 с.
- Едалина А. А. Семантико-мотивационная организация лексического множества «Качественная характеристика человека по отношению к собственности» (на материале русских народных говоров): дис . канд. филол. наук. Екатеринбург, 2015. 256 с.
- Куркина Л. В. Этимология русских диалектных слов (русское диалектное назола) // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения В. В. Виноградова). М.: Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова РАН, 1995. С. 278-282.
- Кучко В. С. Семантико-мотивационное поле «Ложь, обман» в языковом пространстве русских народных говоров: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2017. 339 с.
- Малькова Я. В. К семантико-мотивационной интерпретации русской диалектной лексики со значением брезгливости (посвирывать, кобзо-вать, скабежливый и др.) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2021а. Т. 23, № 3. С. 264-275. doi 10.15826/izv2.2021.23.3.058
- Малькова Я. В. К семантико-мотивационной интерпретации русской диалектной лексики со значением неприязни, вражды (озорочье, подсе-вуха, зуб грызть) // Вестник Челябинского государственного университета. 2021б. № 9(455). Филологические науки. Вып. 126. С. 83-88. doi 10.47475/1994-2796-2021-10912
- Сурикова О. Д. Лексические единицы с приставкой и предлогом без в русских народных говорах и фольклоре: семантико-мотивационный и этнолингвистический аспекты: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2016. 604 с.
- Тихомирова А. В. Ассоциативно-деривационная и фразеологическая семантика наименований одежды в русской языковой традиции: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013. 350 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева; под. ред. и с предисл. Б. А. Ларина. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1986-1987.
- Шмелев А. Д. «Незначащее» и «невыраженное» отрицание (когнитивные и коммуникативные источники энантиосемии) // Логический анализ языка. Ассерция и негация / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Наука, 2009. С. 173-202.
- ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / под ред. О. Н. Трубачева, А. Ф. Журавлева. М.: Наука, 1974-. Вып. 1-.
- Ясинская М. В. Представления о глазах и зрении в языке и традиционной культуре славян: дис. ... канд. филол. наук. М., 2015. 278 с.