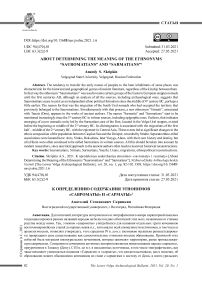К определению содержания этнонимов "савроматы" и "сарматы"
Автор: Скрипкин Анатолий Степанович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Для античной литературы исторического и географического жанра характерной являлась тенденция переноса ранних названий народов на более поздних обитателей этих мест, независимо от степени родства между ними. Так, этноним «савроматы» употреблялся для названия отдельных групп кочевников восточноевропейских степей до первых веков н.э., хотя анализ всей совокупности источников, в том числе и археологических, позволяет утверждать, что с середины IV в. до н.э. (возможно несколько раньше) савроматы прекращают свое существование как самостоятельное этнополитическое образование. Причиной этих событий была миграция южноуральских кочевников, которые занимают территорию, ранее принадлежавшую савроматам. Синхронно в сочинениях античных авторов появляется новое название народа «сирматы», приуроченное к Танаису (Дону). С III в. до н.э. в письменных источниках, в том числе эпиграфических, все чаще начинают упоминаться названия «Сарматия» и «сарматы», что свидетельствовало, как я полагаю, об образовании нового объединения кочевников во главе с сарматами к востоку от Дона, в волго-уральских степях, просуществовавшего до начала или середины II в. до н.э. Его распад связан с миграциями первой половины - середины II в. до н.э., эпицентром которых была Центральная Азия. Эти события привели к значительным изменениям этнического состава населения от Каспийского моря до Днепра, зафиксированного Страбоном. Здесь разместились отдельные этноплеменные объединения: аорсы, сираки, роксоланы, позже языги, аланы, со своей историей и судьбой, но часто в письменных источниках все они продолжали именоваться сарматами. Все это следует учитывать современным исследователям, поскольку некритическое следование за данными античных авторов часто приводит к неверным историческим реконструкциям.
Савроматы, сирматы, сарматы, юэчжи, усуни, миграции, этнополитические реконструкции
Короткий адрес: https://sciup.org/149138031
IDR: 149138031 | УДК: 94(470).01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.1.6
Текст научной статьи К определению содержания этнонимов "савроматы" и "сарматы"
DOI:
Цитирование. Скрипкин А. С., 2021. К определению содержания этнонимов «савроматы» и «сарматы» // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 1. С. 82–102. DOI:
В истории археологического изучения кочевнических памятников раннего железного века степной части Восточной Европы сложилась достаточно устойчивая терминология: «савроматская культура» (VI–IV вв. до н.э.) и «сарматская культура» (IV в. до н.э. – IV в. н.э.), причем последняя подразделяется на ряд хронологически последовательных культур (раннесарматская, среднесарматская и позднесарматская). Сама эта терминология предполагает наличие сарматского этноса во всем этом временном промежутке, измеряемом примерно восемью веками.
Археологическое изучение погребальных памятников, относимых ко времени, именуемому сарматским, свидетельствует о существенных изменениях в погребальном обряде на разных этапах, что явилось основанием для выделения трех хронологически последовательных культур. Поскольку погребальный обряд является в определенной мере этническим маркером, есть основания говорить о происходивших изменениях состава кочевого населения на территории, традиционно отводимой сарматам. Изменения этнического состава при переходах от одной сарматской культуры к другой находят подтверждение и в антропологическом материале.
Наименование «сарматы» является экзоэтнонимом, использовавшимся античными авторами, упоминавшими сарматов в различных событиях на протяжении нескольких веков, что создавало впечатление достаточно длительного их пребывания в восточноевропейских степях. Под влиянием античной традиции сложилась и соответствующая археологическая терминология, нашедшая отражение в трех названных выше сарматских культурах.
Я попытаюсь изложить свои соображения о том, как менялось со временем содержание этнонимов «савроматы» и «сарматы» с привлечением письменных и археологических источников, а также данных антропологии. К сказанному хочу добавить, что эта тема в последнее время уже затрагивалась нами [Скрипкин, 2019а, с. 244–252; Скрипкин, Балабанова, 2020, с. 249–258; Скрипкин, Клепиков, 2020, с. 208–216]. В предлагаемой статье я хочу обобщить ранее изложенное мной и моими коллегами, а также более определенно высказаться по отдельным вопросам рассматриваемой темы, которые не получили полного освещения в предшествующих публикациях.
Начать придется с савроматов, первые и самые полные сведения о которых приводит Геродот. По его данным, савроматы были восточными соседями скифов, владевшими территорией к востоку от Танаиса. По письменным источникам можно определить владения савроматов в меридиональном направлении, с юга на север. Они простирались от территории, занимаемой меотами, до будинов, то есть от районов Восточного Приазовья до лесостепи Среднего Дона. Геродот измерял это расстояние в 15 дней пути. В письменных источниках отсутствуют данные о протяженности территории, занимаемой савроматами, к востоку от Дона. Учитывая, что савроматы были кочевниками, это расстояние должно было быть достаточным для удовлетворения их хозяйственных потребностей.
С активизацией археологических раскопок на территории Поволжья и Южного Приуралья в 20–30-х гг. прошлого века сложилось представление о распространении памятников савроматской (блюменфельдской) культуры от Волги до Южного Урала включительно [Граков, 1947, с. 100–104, 106–112]. С дальнейшим накоплением археологического материала исследователи стали обращать внимание на имеющиеся различия в погребальном обряде и материальной культуре кочевнических памятников VI–IV вв. до н.э. Поволжья и Южного Приуралья. Специальные исследования, проведенные по этой проблеме, привели к правомерному убеждению в серьезных различиях погребальных памятников двух указанных регионов рассматриваемого времени по археологическим показателям. Эти различия оказались столь существенными, что было высказано мнение, которое в настоящее время поддерживается большинством исследователей, о принадлежности памятников в этих двух районах к разным археологическим культурам [Очир-Горяева, 1989, c. 112–114; Же-лезчиков, 1995, c. 30–32]. Различие культурных традиций между ними шло по нарастающей, особенно очевидными они становятся с какой-то части V в. и в IV в. до н.э.
Идея о принадлежности погребальных памятников VI–IV вв. до н.э. к востоку от Дона савроматам была высказана почти век назад П.Д. Рау [Rau, 1929, S. 60]. Позже К.Ф. Смирнов, определяя археологические памятники этого времени от Дона до Южного Приуралья как оставленные родственными племенами, поместил савроматов Геродота на территории Волго-Донского региона [Смирнов, 1964, с. 191–197]. Погребальные памятники VI–IV вв. до н.э. Волго-Донского междуречья и Заволжья обладают значительным сходством и могут быть отнесены к одной культуре, носителями которой являлись савроматы. В Заволжье территория кочевий савроматов простиралась от низовий Волги до современной Самарской области [Скрипкин, 2009а, c. 29–40].
К отождествлению южноуральских кочевников скифского времени с племенными наименованиями, упоминаемыми в сочинениях античных авторов, обращались многие исследователи. Чаще обсуждались две версии, одна из которых склонна была отождествлять их с исседонами, другая – с даями. Исседон-ская версия слишком мифологизирована, реальность сведений, лежащих в основе ее доказательств, весьма сомнительна. На мой взгляд, более убедительной выглядит вторая версия, основанная преимущественно на данных Страбона, изложенных в его труде «География». Страбон полагал, что Каспийское море является заливом океана, соединенного с ним узким проливом. Даев он помещал к востоку от входа в Каспийское море, их соседями был массагеты и саки (География, XI, 7, 1). Массагетов и саков обычно помещают к востоку от Каспийского моря. В этом случае территория обитания даев, ограниченная входом узкого пролива в это море, должна располагаться северней владений упомянутых соседних народов. Анализ среднеазиатских событий, связанных с восточным походом Александра Македонского, и упоминание в них даев (дахов) не исключает возможности включения в зону их обитания территории, располагавшейся к северу от Хорезма и Аральского моря. Исследователями обращалось внимание на то, что в античных источниках (Кл. Птолемей) река Урал называлась Даикс, что предполагало обитание здесь некогда даев [Скрипкин, 2013а, c. 21–25; 2017, c. 44–46]. Из сообщения Страбона следует, что даи возглавляли крупный союз, включающий ряд племен со своими названиями. «Большинство скифов, начиная от Каспийского моря называются даями. <...> Из даев одни называются апарнами, другие – ксанфиями и третьи – писсурами» (География, XI, 8, 1).
Есть основание полагать, что отличающиеся значительным богатством захоронения Филипповского I курганного могильника принадлежали знати племенного союза, возглавляемого даями. Могильник начал исследоваться экспедицией под руководством А.Х. Пше-ничнюка (1986–1990 гг.), а с 2004 г. в течение ряда лет был доследован экспедицией Института археологии РАН под руководством Л.Т. Яблонского. А.Х. Пшеничнюк датировал исследованные им погребальные комплексы могильника рубежом V–IV вв. до н.э., считая, что все они были сооружены в интервале не более 30–50 лет и относились к раннесарматской культуре [Пшеничнюк, 2012, c. 87– 89]. Л.Т. Яблонский склонен был датировать могильник Филипповка I в пределах конца V– третьей четверти IV в. до н.э., полагая, что «...типологически он может быть отнесен к памятникам переходного типа от “савромат- ских” к раннесарматским» [Яблонский, 2017, с. 188–192].
Для погребального обряда филипповских курганов и ряда других могильников Южного Приуралья того же времени было характерным сооружение дромосных могильных ям с коллективными захоронениями, подквадратных ям с диагональным положением умерших, подбойных ям, в которых начинает преобладать южная ориентировка погребенных. В материальной культуре получают распространение глиняные сосуды с тальком в тесте и орнаментальным фризом по верхней части ту-лова, железные мечи с дугообразным или сломанным под тупым углом перекрестием, большие бронзовые зеркала с широким утолщением края диска, наличие большого количества вещей или их деталей, выполненных в зверином стиле.
Погребальные памятники Волго-Донского региона V в. до н.э. и, видимо, вплоть до середины IV в. до н.э. существенно отличались от южноуральских. Здесь преобладали захоронения в простых удлиненных ямах или широких прямоугольных, иногда с коллективными захоронениями, ориентировка погребенных преобладала головой на запад, реже – на восток. Глиняная посуда была представлена преимущественно лепными горшками простых форм, клинковое оружие – типичное для скифского времени, с сердцевидным или бабочковидным перекрестием.
Очевидное различие в погребальном обряде и материальной культуре археологических памятников Южного Приуралья и Волго-Донского региона в рассматриваемое время должно в определенной мере свидетельствовать о том, что они были оставлены разными кочевыми объединениями с наличием в них разных этнических компонентов. Много раз постулировавшееся родство между ними могло иметь место на уровне отнесения того и другого объединения к ираноязычному населению с возможными диалектными различиями.
Итак, как мне представляется, волгодонские степи с VI в. до н.э. и примерно до середины IV в. до н.э. являлись территорией обитания савроматов, а южноуральские степи занимали даи. С середины IV в. до н.э. (возможно, несколько раньше) отмеченные выше основные черты археологической культуры южноуральских кочевников начинают распространяться в Поволжье и Подонье. В данном случае речь идет о смещении целого южноуральского культурного пласта на запад в сторону Северного Причерноморья. На Волге и на Дону появляются погребения в дромосных ямах и диагональные захоронения с наличием южной ориентировки погребенных. Мечи, типичные для Южного Приуралья, появляются в Поволжье и на Нижнем Дону, в Нижнем Поволжье распространяется тальковая керамика с типичной южноуральской орнаментацией и те же бронзовые зеркала [Скрипкин, 2009б, c. 171–192; Скрипкин, Ким, 2013, c. 271–280]. Спектральный анализ металлических вещей, в том числе бронзовых наконечников стрел, из дромосного погребения кургана 4 у хут. Сладковский, расположенного к западу от Дона, ближе к Северскому Донцу (то есть на территории, принадлежащей скифам, согласно античной литературной традиции), показал, что почти все они отлиты «из восточного металла, хорошо представлены в памятниках ранних сарматов Южного Приуралья и Поволжья. Выявленные химико-металлургические рецепты в сочетании с типологическими характеристиками, вероятно, могут свидетельствовать об изготовлении их в восточных производственных центрах» [Бар-цева, 1984, c. 141–148].
Обращает на себя внимание дружинный характер захоронений с выраженными южноуральскими признаками, выявленными на территории Волго-Донского региона, наличие в них клинкового оружия, наконечников стрел и копий. Все это в совокупности должно свидетельствовать о военном характере миграции южноуральских кочевников на Волгу и Дон, да и в сторону Северного Кавказа [Скрипкин, 2010, с. 184–191; Скрипкин, 2015, с. 12–17].
Особый интерес вызывает тот факт, что примерно в это же время в сочинениях античных авторов начинают упоминаться сирматы, нахождение которых приурочено к Дону. Одно из наиболее ранних упоминаний о них, как было установлено, содержится у Эвдокса Книдского, писавшего около 370–365 гг. до н.э. [Ма-чинский, 1971, с. 42–44]. Информация о сир-матах у Эвдокса довольно краткая: «Вблизи Танаиса живут сирматы» (Землеописание, фр. кн. I). К тому же времени (361–357 гг. до н.э.) [Тохтасьев, 2005, с. 291] относится информация о сирматах Псевдо-Скилака: «Сирматы. [За скифами сирматы] народ и река Танаис [которая] составляют границу Азии и Европы» [Описание моря ... , 68]. Последняя локализация сирматов предполагает их обитание к западу от Дона.
Савроматская культура как целостное явление в волго-донских степях существовала до IV в. до н.э. В отдельных случаях ее традиции сохраняются до начала III в до н.э. в междуречье Волги и Дона [Клепиков, 2007, с. 37–58; Соколов, 2010, с. 29, 30]. В IV в. до н.э. (возможно, в какое-то время его первой половины) на той же территории начинают распространяться кочевнические памятники ярко выраженного южноуральского происхождения. Полагаю, этот процесс следует рассматривать как подчинение всей территории, принадлежащей ранее савроматам письменных источников, новым хозяевам, именуемым сирматами. Подонье было только западным пределом их продвижения.
Из сказанного следует, что сирматы, являясь носителями южноуральских культурных традиций, должны были являться частью племенного объединения, возглавляемого даями. Подтверждением тому, кроме совпадения распространения погребальных памятников в Волго-Донском регионе южноуральского происхождения с появлением в письменных источниках нового этнонима, является утверждение Страбона, отмеченное выше, что под общим именем даев скрывались многие народы, имевшие свои названия, одним из которых могли быть сирматы. В этом отношении представляет интерес упоминание Плинием сирматов, обитавших в Средней Азии у Окса (Естественная история, VI, 48). Археологическими исследованиями в отдельных районах Средней Азии, в том числе и на Амударье (Оксе), выявлены погребальные памятники, обнаруживающие ближайшее сходство с аналогичными южноуральскими. Эта археологическая ситуация с опорой на письменные источники позволяет утверждать об обитании здесь даев (дахов), информация о которых увеличивается со времени вторжения в Среднюю Азию Александра Македонского [Балахванцев, 2005, с. 64–67; 2017, с. 28–41].
Не вдаваясь в детали причин появления здесь даев (они достаточно полно изложены А.С. Ба-лахванцевым), отметим, что их прародиной являлось Южное Пиуралье. Поскольку, согласно Страбону, в состав даев входили отдельные племенные группировки со своими самоназваниями, какая-то их часть, именуемая сирматами, вместе с даями могла попасть в Среднюю Азию и быть засвидетельствованной источником Плиния. Здесь представляет интерес тот факт, что этноним «сирматы», зафиксированный в разных географических районах разными авторами, появляется на выраженном фоне южноуральских археологических инноваций как в погребальном обряде, так и материальной культуре.
Выше я отмечал, что ко времени, близкому к середине IV в. до н.э., савроматская культура в волго-донских степях как единое целое прекращает свое существование. Это, полагаю, должно свидетельствовать и об исчезновении савроматов как самостоятельного политического объединения.
Теперь обратимся к вопросу, когда же в употребление входят этноним «сарматы» и хороним «Сарматия» как территория обитания сарматов. Ранее М.И. Ростовцев считал, что сарматы на Дону появляются в IV в. до н.э. [Ростовцев, 1918, с. 81]. Эта версия наиболее развернуто была изложена Д.А. Мачинским. Анализ письменных и в отдельных случаях археологических источников позволил ему сделать следующий вывод: «...наименования “сирматы”, с одной стороны, и “сарматы”, “Сарматия”, с другой, появляются в источниках почти одновременно, относятся почти к одной и той же территории и чрезвычайно сходны по написанию и звучанию». События, с которыми связано появление этих названий, он относил к концу IV – началу III в. до н.э. [Мачинский, 1971, с. 48, 54].
Однако с этой версией согласились не все исследователи. Я бы мог поддержать идею о том, что сирматы – это первое искаженное название сарматов, ссылаясь на этнографические примеры, свидетельствующие о том, что появление в поле зрения источников нового народа не всегда точно фиксировалось в них его названием [Скрипкин, Балабанова, 2020, с. 250, 251]. При этом, с одной стороны, этноним «сирматы» упоминается в трех сочинениях, кажется, независимых авторов, что свидетельствует о его устойчивости. С другой стороны, существующие археологические материалы не позволяют предложить напрямую такое отождествление. Дело в том, что этноним «сирматы» соответствует весьма специфической группе памятников, хронологически ограниченных небольшим промежутком времени, примерно серединой – второй половиной IV в. до н.э., и навряд ли они датируются позже. Этот археологический пласт погребальных памятников, протянувшийся от Южного Приуралья до Нижнего Дона, по обряду и материальной культуре соответствует, по Л.Т. Яблонскому, переходному периоду от памятников савроматс-кого времени к памятникам сформировавшейся раннесарматской культуры. Наиболее выразительными признаками этого периода, особенно ярко представленными в Филипповском I и ряде других курганных могильников Южного Приуралья, являются ямы дромосной конструкции, диагональные захоронения, южная ориентировка погребенных, описанный выше тип клинкового оружия, глиняной посуды, бронзовых зеркал и проч. [Яблонский, 2007, с. 26].
По периодизационной схеме южноуральских памятников Л.Т. Яблонского, разработанной с использованием предметов восточного импорта, в третьей четверти IV в. до н.э. происходят существенные изменения в погребальном обряде и материальной культуре. Перестают практиковаться захоронения в дро-мосных ямах и диагональные погребения, происходит замещение типов керамики, клинкового оружия, бронзовых зеркал [Яблонский, 2017, с. 218–220]. То же самое происходит и в Волго-Донском регионе. В последующее время в волго-уральских степях распространяется достаточно унифицированная единая археологическая культура, наиболее типичными чертами которой являлось: сооружение погребений в простых прямоугольных и подбойных ямах, реже в ямах катакомбной конструкции с южной ориентировкой костяков, обычно по несколько погребений в одном кургане. Для вещей характерно большее разнообразие глиняной посуды, распостранение мечей и кинжалов с серповидным навершием, наличие колчанных наборов с бронзовыми и железными наконечниками стрел, бронзовые зеркала с валиком на обратной стороне диска, редкая встречаемость предметов, выполненных в зверином стиле.
Возникает вопрос, эти два хронологических пласта археологических памятников могли принадлежать одному и тому же народу или это связано с какими-то этническими изменениями на рассматриваемой территории в конце IV в. до н.э. По материалам Южного Приуралья многие исследователи усматривают преемственность в развитии материальной культуры и погребальной обрядности в диапазоне VI–III вв. до н.э. Могильники типа Филипповка I по дате смыкаются с памятниками типа Прохоровка, отождествляемыми со сложившейся раннесарматской культурой [Яблонский, 2017, с. 217]. Антропологический материал из прохоровских курганов свидетельствует о том, что физический тип людей этого могильника не претерпел резких изменений по сравнению с предшествующим населением Южного Приуралья [Яблонский, 2010, с. 90]. Хотя для Южного Приуралья в формировании прохоровской культуры не следует исключать и роль отдельных миграций, например, зауральского населения, в том числе лесостепного, не исключаются контакты с кочевым населением Казахстана и Приаралья [Мошкова, 1974, с. 39–46; Таиров, Гуцалов, 2006, с. 341].
В Волго-Донском регионе южноуральские кочевники не сохранили своей этнической чистоты, судя по сохранению вплоть до начала III в. до н.э. отдельных традиций савро-матской культуры. Надо полагать, что какая-то часть прежнего населения вошла в состав нового кочевнического объединения.
Прекращение функционирования Филипповского курганного могильника, который я отождествляю с «Геросом» элиты кочевого объединения, возглавляемого даями, полагаю, связано с распадом этого объединения. Это событие, как считал один из его исследователей Л.Т. Яблонский, произошло в третьей четверти IV в. до н.э. В связи с этим возникает еще один вопрос. Миграция южноуральских кочевников, носившая, как я полагаю, военный характер, осуществлялась в рамках политических амбиций племенного союза во главе с даями или по инициативе представителей какой-то его части, предполагаемых сирматов, поскольку сепаратизм – обычное явление для племенных союзов раннего железного века и средневековья.
Так или иначе, после распада племенного союза даев, интерес собственно даев оказался связан со Средней Азией. Здесь их упоминают письменные источники, они участвуют в индийском походе Александра Македонского, одно из их подразделений было причастно к образованию Парфянского государства [Балахванцев, 2017]. В волго-уральских степях появляется новое этнополитическое объединение. Здесь с конца IV в. и до начала II в. до н.э. сформировалась и существовала единая для всего этого степного пространства археологическая культура, что, по всей вероятности, могло свидетельствовать и о политическом единстве ее населения. Я могу предположить, что именно с этой территорией следует отождествлять первые упоминания о Сарматии, названной по имени племени гегемона, возглавившего племенное объединение кочевников.
Обратимся к письменным источникам, которые уже не однажды находились в поле зрения исследователей. Это сообщение Антигона Каристского (время, близкое к середине III в. до н.э. или начало его второй половины) через промежуточную информацию Каллимаха (310–235 гг. до н.э.) о том, что в сочинении Гераклида Понтийского (390–310 гг. до н.э.) содержится упоминание о Сарматии, на территории которой находилось озеро с дурным запахом. К рубежу IV–III вв. до н.э. относится сообщение Теофраста о животном таранде, способном менять свой цвет, которое обитало то ли в Скифии, то ли в Сарматии [Мачинский, 1971, с. 46]. Эти сообщения подвергались критическому разбору не только археологов, но и специалистов в области античной филологии.
Сведения о первом упоминании сарматов в античных письменных источниках были проанализированы специалистом в области классической лингвистики С.Р. Тохтасьевым [Тохтасьев, 2005, с. 291–306]. Сопоставив сведения Антигона и Теофраста о Сарматии с другими разновременными источниками, он высказал сомнение в том, что это наименование изначально значилось в их трудах, что оно могло быть результатом позднейших редак- ций их сочинений. Вместе с тем он высказался в поддержку новой интерпретации Ю.Г. Виноградовым перевода херсонесского декрета о «несении Диониса», в котором присутствует этноним «сарматы» с его узкой датой около 280 г. до н.э. [Виноградов, 1997, с. 104–124]. С.Р. Тохтасьев также высказал свое мнение в отношении известного сообщения Диодора Сицилийского о нападении на Скифию савро-матов и превращении ее в пустыню. Это сообщение не раз интерпретировалось исследователями в зависимости от того, какой версии они придерживались по вопросу о времени появления сарматов. Он определенно высказал мнение, что Диодор «использует термин “савроматы” лишь по традиции, в качестве архаизирующего синонима вместо нового “сарматы”» [Тохтасьев, 2005, с. 292]. Это заключение С.Р. Тохтасьева находит подтверждение и в археологическом материале. Как уже излагалось выше, к середине IV в. до н.э. савроматская археологическая культура прекращает свое существование, что предполагает утрату савроматами своего политического единства. Ряд исследователей [Виноградов и др., 1997, с. 6–27], в том числе и С.Р. Тох-тасьев, хронологически сообщение Диодора связывают с разрушениями поселений с начала III в. до н.э. на значительной части территории Северного Причерноморья, которые, по их мнению, были актом агрессии сарматов. Кажется, не вызывает возражения сообщение Псевдо-Скимна, со ссылкой на Деметрия Калатийского, о месте обитания сарматов. «На Танаисе, который служит границею Азии, разделяя материк на две части, – первыми живут сарматы, занимая пространство в 2000 стадий» (Землеописание, 874–885). Это сообщение, восходящее к Деметрию Калатий-скому, С.Р. Тохтасьев относит к самому концу III в. до н.э. Таким образом, анализ письменных источников специалистами в этой области предполагает появление сарматов, по крайней мере, уже с начала III в. до н.э. В этом случае утверждение о том, что наименование «Сарматия» в трудах Антигона, Каллимаха, Теофраста, по крайней мере, если не у всех, то у кого-то из них, не является непременно позднейшей вставкой, а может отражать реальность их времени, поскольку этноним «сарматы» тогда был уже на слуху.
Я полагаю, что область, именуемая в источниках «Сарматией», c III по начало или середину II в. до н.э. располагалась к востоку от Дона и занимала территорию волгоуральских степей. На этой территории была распространена в своем сложившемся виде единая археологическая культура, именуемая раннесарматской, или прохоровской, элементы которой сохраняются до рубежа эр. В указанное время здесь оформилось племенное кочевое объединение, возглавляемое сарматами.
Территория Северного Причерноморья после разгрома Скифии была зоной дестабилизации. Перед сарматами, по всей видимости, не стояла задача быстрейшего заселения бывших владений скифов и переноса сюда родовых могильников. Политически они вполне могли контролировать какую-то часть причерноморских степей, взимая дань с греческих городов. Показательным в этом случае является пример с саями и их предводителем Саитафарном, упомянутыми в известном ольвийском декрете в честь Протогена. Саи не являлись постоянными соседями Ольвии, но ее жители должны были преподносить дары их вождю в случае появления саев поблизости от города. Существует значительный круг литературы, в которой предпринимались попытки отождествления саев с разными известными народами той эпохи. На мой взгляд, в решении этой проблемы значительную роль играет имя предводителя саев Саитафарна, особенно его составная часть «фарн». Античные авторы сохранили достаточное количество имен скифских правителей, среди которых нет имен с этой составной частью. Достаточно объективным мне представляется мнение Б.А. Литвинского о принадлежности личных имен, включающей составную часть «фарн» сарматам, что связано с почитанием ими культа Фарна. Подтверждением этому является широкое распространение таких имен в городах Северо-Восточного Причерноморья в первые века н.э. в связи с начавшейся их сарматизацией [Литвинский, 1968, с. 69].
Я вполне могу согласиться с В.И. Мор-двинцевой в том, что хороним «Сарматия» мог появиться в результате утверждения новых политических партнеров греческих городов в конце III – начале II в. до н.э., причем они не обязательно должны были поселиться в степях Северного Причерноморья. Им достаточно было осуществлять политический контроль над этой территорией [Мордвинцева, 2015, с. 130]. С единственным уточнением, что такая ситуация могла случиться и раньше, в рамках III в. до н.э.
Теперь о соотношении этнонимов «сарматы» и «савроматы». Античные авторы отождествляли сарматов с их предшественниками савроматами. У Диодора Сицилийского содержится информация о появлении сав-роматов у Танаиса, по его данным, они были переселены сюда из Мидии скифами. Далее он отмечал, что савроматы «много лет спустя, сделавшись сильнее» напали на Скифию, поголовно истребляя ее население, превратили ее в пустыню (Историческая библиотека, II, 43). Примерно через сто лет эта версия, но уже о происхождении сарматов была повторена Плинием Старшим, который также, помещая сарматов у Танаиса, отметил, что своим происхождением они связаны с мидянами (Естественная история, IV, 19). Тот же Плиний, перечисляя народы к северу от Истра, упоминает сарматов, которые, как он утверждал, по-гречески именуются савроматами. Это не значит, что авторы, писавшие на латыни, называли народ сарматами, а писавшие на древнегреческом их же именовали савро-матами. Это свидетельство Плиния следует воспринимать как то, что более ранние авторы греческого происхождения (Геродот, Гиппократ, вероятно, Эфор), являясь современниками савроматов, фиксировали этот народ у Танаиса. К моменту появления латиноязычных авторов здесь уже обитали сарматы. В дальнейшем, независимо от того, на каком языке писались сочинения античных авторов, сарматы отождествлялись с савроматами, хотя последние как самостоятельное этнополитическое объединение давно сошли с исторической арены. Даже когда и сарматы в этом качестве перестали существовать, этноним «савроматы» продолжал использоваться.
Савроматы упоминаются Аппианом в событиях I в. до н.э. в качестве союзников понтийского царя Митридата VI Евпатора в его борьбе против Рима (Митридатовы войны, 15, 19). Кстати, Плиний говорил о савро-матах, к которым бежал мятежный Митри- дат VIII, потерпевший поражение в борьбе за власть в Боспорском царстве (Естественная история, VI. 16, 17). Однако Корнелий Тацит, подробно описавший это событие, произошедшее в середине I в. н.э., свидетельствует, что Митридат сдался аорсам, «припав к коленям Эвнона», их царя (Анналы, XII, 18). Современные исследователи не однажды отмечали упоминание в письменных источниках саврома-тов на рубеже эр в военных акциях на дунайских рубежах Римской империи [Дзиговский, 2003, с. 80].
Затянувшееся упоминание античными авторами савроматов мне напоминает историю с названием «татары». Первоначально татары обитали у северных границ Китая. Начиная с XII в. их именем китайцы называли и другие народы, в том числе и монголов. Монголы, создав свой племенной союз, истребили татар, поскольку они были виновниками гибели отца Чингисхана, объединителя монголов. По его приказу все татарское население, включая детей выше тележной оси, было уничтожено. После этих событий татары перестали существовать как политическая и этническая единица, но их имя, благодаря китайской письменной традиции, продолжало использоваться по отношению к монголам [Егоров, 1990, с. 7, 8]. Это название для отдельных народов сохранилось до нашего времени в лице поволжских, крымских татар, ничего общего не имеющих со средневековыми татарами, некогда обитавшими у границ Китая.
Во II в. до н.э. на значительной части евразийского степного пространства происходят существенные изменения этнополитического плана. Мне неоднократно приходилось освещать эту тему [Скрипкин, 2000, с. 17–40; 2019б, с. 20–34]. Все началось с событий, связанных с Китаем и его северными соседями хунну (сюнну). В 221 г. до н.э. завершается длительный период политической раздробленности Китая. Правитель царства Цинь Цинь Шихуанди объединяет ряд враждовавших между собой царств в единое государство, приобретшее статус империи. Объединение Китая создало проблемы для их северных соседей кочевников, поскольку отдельным их группировкам осуществлять свои набеги на объединенный Китай стало сложно. Как ре- акция на объединение Китая, к северу от него формируется крупное племенное объединение, возглавленное хунну, усиление которых происходит с приходом к власти в 209 г. до н.э. Маодуня (Модэ) [Барфилд, 2009, с. 76–82]. Хунну осуществляют военные акции не только против Китая, но и против других своих соседей. Они наносят поражение своим западным соседям, племенному объединению, именуемому в китайских источниках юэчжами, причем борьба с ними у хунну отняла много сил и времени.
Отдельные факты этих событий известны исключительно из китайских источников. Окончательную победу над юэчжами хунну одерживают в 177 г. до н.э. в конце правления шаньюя Модэ. Потерпев поражение, большая часть юэчжей отошла на запад в Джунгарию, вытеснив оттуда саков. В 155 г. до н.э. юэчжи снова терпят поражение от усуней и хунну и через Фергану уходят к берегам Окса (Амударьи) [Гумилев, 1993, с. 56; Восточный Туркестан ... , 1988, с. 235–241]. Долину реки Или в Джунгарии занимают усуни. Исследователи полагают, что под ударами юэчжей пало Греко-Бактрийское царство. Это событие произошло в 145 г. или между 140 и 130 гг. до н.э. [Бернар, Абдуллаев, 1997, с. 68–86; Ставис-кий, 1977, с. 96].
Менее информативные сведения об отголосках упомянутых событий содержатся у античных авторов, в первую очередь у Страбона, который передает информацию о племенах, отнявших Бактриану у греков, это «... асии, пасианы, тохары и сакаравлы, которые переселились из области на другом берегу Иаксарта...» (География, XI, 8, 2). Тохаров многие исследователи отождествляют с юэчжами китайских источников на том основании, что в последующее время Таха-ристаном стали именоваться бывшие области Бактрии.
После событий, связанных с падением Греко-Бактрийского царства, на юге Средней Азии появляется ряд крупных курганных могильников, насчитывающих по несколько сотен курганов, оставленных кочевым населением. Так, например, Тулхарский могильник (348 курганов) датируется, в том числе и по монетам, последней третью II в. до н.э. – началом I в. н.э. Другие курганные могильники
(Аруктауский, Кокумский, Бабашовский) возникают во II в. до н.э. Захоронения в этих могильниках по ряду черт материальной культуры и погребального обряда обнаруживают сходство с сарматскими памятниками [Мандельштам, 1972, с. 31–43]. Причем это сходство прослеживается с сарматскими памятниками Волго-Уральского региона II–I вв. до н.э. Оно настолько очевидно, что в одной из ранних своих работ я высказал предположение о том, что какая-то часть сарматов вместе с другими племенами, пришедшими с востока, приняла участие в среднеазиатских событиях второй половины II в. до н.э. [Скрипкин, 1982, с. 49]. О.В. Обельченко на основании раскопанных им в Бухарском оазисе курганных могильников, выявив значительное их сходство с сарматскими памятниками, вообще считал, что Греко-Бактрия была завоевана исключительно сарматами [Обельченко, 1961, с. 174–176].
Однако ситуация здесь выглядела иным образом. Сходство погребальных памятников Средней Азии с сарматскими восточноевропейских степей, как мне это представляется в настоящее время, связано с одним и тем же событием, однонаправленными миграциями кочевого населения из районов Центральной Азии, инициированными агрессивной политикой хунну. Эти миграции в одно и то же время оказали существенное влияние на этническую ситуацию как в Средней Азии, так и в ВолгоУральском регионе.
В погребальных памятниках юга Восточной Европы II–I вв. до н.э., относимых к сарматскому кругу, к настоящему времени выявлена серия вещей, обнаруживающая близкие аналогии в памятниках Центральной Азии. Это различные типы мечей, бронзовые ажурные, решетчатые и гагатовые поясные пряжки, глиняные кубические курильницы, миниатюрные копии котлов, колчанов с луками. Новые явления фиксируются и в погребальном обряде. Получают распространение захоронения в колодах, конструкция которых в отдельных случаях близка колодам, используемым в погребальной практике населения Тувы последних веков до н.э. В отдельных районах Поволжья и Подонья, особенно в Северном Причерноморье, существенно увеличивается процент северной ориентировки по- гребенных [Симоненко, 2010, с. 392–402; Скрипкин, 2019б, с. 20–34].
Важным аргументом в подтверждение того, что эти инновации в материальной культуре представляют собой результат миграционных процессов, выступают данные антропологических исследований. Изучение репрезентативной выборки краниологического материала, включающей более трех с половиной сотен черепов из погребений II–I вв. до н.э. могильников Нижнего Поволжья, выявило, по сравнению с предыдущим временем, появление нового населения, отличающегося доли-хокранией [Балабанова, 2010, с. 72; Скрипкин, Балабанова, 2020, с. 254, 255]. Для предшествующего сарматского населения наиболее типичной была брахикрания. Появление новых типов вещей, перечисленных выше, определяют исходные территории этой миграции.
Для нашей темы важную роль играет хронологическая последовательность событий, связанных с произошедшими миграционными процессами. Если исходить из китайских источников, то их начало приходится на 70-е гг. II в. до н.э., а завершение – в Бактрии в 40–30 гг. того же века. Причем, по тем же данным, перемещение мигрантов совершалось по южным территориям от северо-восточных границ Китая через Джунгарию на юг Средней Азии. Письменные источники не дают нам каких-либо сведений о перемещении кочевников от Китая по более северным территориям евразийского степного пространства. Однако есть одна зацепка, связанная уже с территорией Восточной Европы. Я имею в виду сообщение Плиния о переходе Танаиса большим количеством племен, среди которых представляют интерес сатархеи и тагоры (Естественная история, VI. 22). Из контекста труда Плиния следует, что Танаис – это современный Дон. Сатархи, отождествляемые с сатархеями, были известны в Средней Азии, о чем сообщает Солин (Собрание достоверных сведений, XLIX, 7). Перейдя Танаис, они во II в. до н.э. упоминаются в Крыму, в одном из эпиграфических источников, с конца II в. до н.э. [Десятчиков, 1973, с. 131–144; Ольховский, 1981, с. 56]. Исследователи тагоров Плиния отождествляют с тохарами Страбона, принимавшими участие в захвате Греко-Бактрии, а последних с юэчжами китайских источников [Скрипкин, 2017, с. 161]. Из сказанного, с одной стороны, следует, что появление названных выше инноваций восточного происхождения и появление нового населения в волго-уральских степях по времени должно быть синхронно событиям падения Греко-Бак-трийского царства. С другой стороны, мы не должны исключать степной путь смещения кочевнических групп с востока на запад. В этом случае отмеченные изменения в волго-уральских степях могли произойти и несколько раньше финальных событий на территории Бактрии. Агрессивная политика хунну с конца III – начала II в. до н.э. могла спровоцировать и более ранние миграции по степному коридору [Шаров, 2012, с. 396–401]. В.П. Глебов, опираясь на археологические материалы, отмечает увеличение численности нового кочевого населения на Нижнем Дону с «ранней части II в. до н.э.» [Глебов, 2007, с. 69, 70].
В любом случае следует признать, что во II в. до н.э. в степных районах Восточной Европы от Южного Приуралья и до Днепра происходят существенные изменения этнополитического характера. Впервые наиболее полно эти изменения нашли отражение в труде Страбона «География», написание которого он завершил в самом начале I в. н.э.
Страбон родился в малоазийском г. Ама-сья (ок. 64/63 г. до н.э.), в одно и то же время, когда покончил с собой злейший враг Рима Митридат VI Евпатор, царь Понтийского государства. В одно время Амасья являлась столицей Понтийского государства. Родственники Страбона принадлежали к ближайшему окружению Митридата, который в течение длительного времени вел борьбу с Римом. В качестве союзников он привлекал кочевников, занимавших территории по другую сторону Понта и Кавказа. С конца II в. до н.э. Понтийское царство контролирует Крым. В администрации Митридата была накоплена новейшая информация об обитавших в тех местах народах. Страбон, видимо, имел возможность использовать эту информацию. Он называет ряд новых народов, занявших территории между Каспийским морем и Меотидой, между Танаисом и Борисфеном (Днепром), которые раньше в письменных источниках не фигурировали. Это аорсы, сираки и роксоланы, причем аорсы подразделялись на две са- мостоятельные группировки: аорсов и верхних аорсов, занимавших разные территории. Страбон уточняет места обитания каждой из них. «Аорсы, впрочем, живут по течению Та-наиса, а сираки – по течению Ахардея, который вытекает с кавказских гор и впадает в Меотиду». Поскольку верхние аорсы отличались многочисленностью, «...они занимали более обширную область, владея почти что большей частью побережья Каспийского моря». Западнее, «на равнинах между Танаи-сом и Борисфеном» Страбон помещал роксолан (География, XI, 5, 8, VI, 3, 17).
Если соотнести расселение этих народов с современной картой, двигаясь с запада на восток, то картина будет выглядеть следующим образом. Территория между Днепром и Доном должна была контролироваться роксоланами, далее за Доном располагались владения аорсов, за ними – верхних аорсов. Ахар-дей, по течению которого располагались си-раки, отождествляется с рекой Кубанью, следовательно, они должны были занимать степные районы Прикубанья. Под «большей частью побережья Каспийского моря», которое занимали верхние аорсы, следует иметь в виду северные районы Прикаспия. Погребальные памятники II–I вв. до н.э. степных районов от Нижнего Дона да Южного Приуралья отличаются значительным единством. Это в определенной мере может свидетельствовать о том, что вся эта территория принадлежала аорсам, от Дона до Волги собственно аорсам, от Волги до Южного Приуралья верхним аор-сам. Следует иметь в виду, что все эти народы вели кочевой образ жизни, в связи с чем они могли контролировать огромные территории, включая все свои кочевья.
Особый интерес представляют слова Страбона о том, что аорсы и сираки «являлись, видимо, изгнанниками племен, живущих выше» (География, XI, 5, 8). По моему мнению, это подтверждает миграционный характер образования этих этнополитических объединений. Полагаю, что выдвигавшаяся ранее версия о появлении сираков на Кубани еще в IV в. до н.э. является несостоятельной. Во-первых, здесь убедительно не прослеживается преемственность археологических памятников на этом достаточно длительном промежутке времени; во-вторых, если бы появ- ление сираков на Кубани состоялось в IV в. до н.э., то к началу I в. н.э., к моменту завершения написания Страбоном своего труда, они воспринимались бы уже как аборигенное население [Скрипкин, 2013б, с. 385–387].
Таким образом, вся территория между Днепром и Южным Приуральем была распределена между четырьмя кочевническими этнополитическими образованиями, практически граничащими между собой. Они были самостоятельны в политическом отношении, имели своих верховных правителей (царей), их имена называют античные авторы (Страбон, Тацит). Эти кочевнические объединения участвовали в разного рода военных мероприятиях самостоятельно или в качестве чьих-либо союзников. Воевали они и между собой, например, в описанных Тацитом событиях сирако-аорской войны (Анналы, XII, 15–21). Интересен тот факт, что на этнокарте Страбона не нашлось места для самостоятельного объединения, именумего сарматами. Если раньше Псевдо-Скимн, со ссылкой на Деметрия Калатийского, на рубеже III–II вв. до н.э. к востоку от Дона помещал сарматов, то Страбон на рубеже эр помещает здесь аорсов.
Ситуация с расселением народов, описанная Страбоном, сохранялась, видимо, до начала – середины I в. н.э. Исследователи отмечают первые появления кочевников, которых античные авторы именуют сарматами, у границ Римской империи по Дунаю в конце I в. до н.э. Более массовое их продвижение в этот район относится уже к I в. н.э. [Симоненко, Лобай, 1991, с. 83; Дзиговский, 2003, с. 79–82]. По Тациту, аорсы и сираки еще в 49 г. н.э. принимают участие в борьбе претендентов за власть в Боспорском царстве, основные события которой происходили на его азиатской стороне. Плиний упоминает аорсов и роксоланов в СевероЗападном Причерноморье (Естественная история, IV, 80), но это, скорее всего, уже вторая половина I в. н.э. М.Б. Щукин полагал, что существенный сдвиг кочевников сарматского круга на запад от Днепра происходит в период с 18 по 60–70-е гг. н.э. [Щукин, 2005, с. 63].
Я специально обратился к вопросу о том, до какого времени сохраняется расселение племен между Днепром и Прикаспием, описанное Страбоном, по следующей причине.
Марком Агриппой (63–12 гг. до н.э.), известным римским деятелем, была составлена карта Римского государства, на которой значилась область под названием «Сарматия», располагавшаяся к востоку от Борисфена (Днепра). Материалы к карте были собраны из различных источников и включены в нее во второй половине I в. до н.э., когда племена к востоку от Борисфена находились на местах, указанных Страбоном. Подсчет размеров Сарматии по данным Агриппы, показывает, что ее территория простиралась от Днепра до Волги и Северного Кавказа [Подоси-нов, 2002, с. 46, 57, 58]. Как уже отмечалось выше, в это время на всей этой территории не существовало какого-либо объединения кочевников, именуемого сарматами. Возникает вопрос, на каком основании вся эта территория именовалась Сарматией? Совокупность археологических и антропологических данных позволяет воссоздать общую картину формирования кочевого населения донских и волгоуральских степей во II–I вв. до н.э.
Появление нового антропологического типа населения, свидетельствующего о миграции, в значительной мере было характерно для мужского пола, что предполагает ее военный характер. Сохранилась значительная часть прежнего населения, которое вошло в состав новых этнополитических образований, главенствующее положение в которых занимают мигрантские группировки как наиболее пассионарная их часть. Этнонимические названия мигрантов легли в основу вновь образованных кочевнических объединений и во внешнеполитических событиях они стали выступать под своими названиями.
Такая реконструкция находит подтверждение в миграции юэчжей и усуней по более южному пути. Юэчжи, заняв район Семиречья частью изгнали отсюда саков, а часть включили в свой состав. Позже усуни, нанеся поражение юэчжам, заставили их уйти в Бактрию, но часть их, а также саков, вошла в состав усуней. Бань Гу по этому поводу констатировал: «...среди усуней есть потомки сэ и потомки больших юэчжей» [Восточный Туркестан ... , 1988, с. 226]. Такие же процессы происходили и в восточноевропейских степях, возможно, с другим соотношением этнических компонентов, но закрепились этнонимы миграционного происхождения, что свидетельствовало в свою очередь о политической гегемонии мигрантов в новых объединениях кочевников.
С этими восточными миграциями связан уход с политической арены саков и массаге-тов, прежних кочевых объединений в Средней Азии. То же самое, видимо, произошло в волго-уральских степях с сарматами. При общей скудности письменных источников среднеазитские события рассматриваемого времени освещены несколько лучше, чем события донского и волго-уральского регионов, что можно объяснить слабой осведомленностью об этих местах античных авторов, продолжавших в своих сочинениях использовать ставшее привычным название обитающих здесь кочевников – сарматы.
Ответ на заданный выше вопрос может быть только один, ситуация с названиями «Сарматия», «сарматы» та же, что и с савро-матами. Фактически кочевое объединение, возглавляемое сарматами, прекращает свое существование в какие-то годы первой половины II в. до н.э. или его середины, но античные авторы продолжают употреблять его название. Ярким подтверждением этому является использование наименования «Сарматия» в творческом наследии Клавдия Птолемея, когда уже после повторной, инициированной аланами, миграции с востока, еще раз перекроившей этническую карту степей Восточной Европы, от наследия исторических сарматов практически ничего не осталось. Птолемей, разделив Сарматию на Азиатскую и Европейскую, границы последней расширил до Вислы и Балтийского моря, что должно было включать в ее состав народы, существенно различающиеся между собой.
Я не разделяю выдвигавшуюся ранее отдельными исследователями версию о том, что появление сарматов вообще связано с центральноазиатскими миграциями II в. до н.э. Близкие по звучанию этнонимы «савроматы», «сирматы», «сарматы» – восточноевропейского происхождения, они отражали этническую ситуацию, сложившуюся в донских и волгоуральских степях с VI по II в. до н.э. Полагаю, что миграции II в. до н.э., напротив, яви- лись причиной распада сарматского племенного союза, сформировавшегося в более раннее время.
Представляет интерес наблюдение М.Б. Щукина о том, что сарматский царь Гатал и сарматская царица Амага выступали гарантами безопасности Херсонеса против агрессии со стороны скифов, а появившиеся роксоланы уже являются союзниками скифов в конфликте с Херсонесом [Щукин, 1994, с. 144]. Видимо, сарматы Гатала и Амаги были последними представителями тех сарматов, объединение которых сложилось еще до миграций II в. до н.э. и с начала своего появления находилось во враждебных отношениях со скифами.
Из названных двух упоминаний сарматов Гатала и Амаги хронологическую привязку имеет свидетельство о сарматах Гатала, зафиксированное Полибием в событиях, связанных с заключением договора понтийcким царем Фарнаком I с Херсонесом (Всеобщая история, XXV, 2). Традиционно заключение этого договора датировалось 179 г. до н.э., хотя и предпринимались попытки уточнения указанной даты. Этот эпизод был достаточно подробно в свое время проанализирован С.Ю. Сапрыкиным, в результате чего он пришел к выводу об отсутствии «причин отказываться от традиционной даты договора, то есть 179 г.» [Сапрыкин, 1996, с. 24–26]. Позже в пользу омоложения даты этого договора – ближе к середине II в. до н.э. – высказался О.Л. Габелко [Габелко, 2017, с. 47–52]. В силу своей специализации мне сложно высказать свое мнение о дате этого договора, в любом случае она не должна выходить за рамки жизни Фарнака I, а это первая половина II в. до н.э. Следует полагать, что сарматы появились в поле зрения понтийской политики не в момент заключения договора, а гораздо раньше, чтобы заявить о себе и попасть на страницы ответственного документа. К тому же известно, что еще до заключения договора сарматы помогли вернуть Херсонесу земли, отнятые ранее у него скифами [Сапрыкин, 1996, с. 79].
Более четверти века назад я опубликовал небольшую статью под названием «Были ли сарматы сарматами?», которая осталась практически незамеченной, видимо, по той причи- не, что она была помещена в материалах местных краеведческих чтений [Скрипкин, 1994, с. 42–44]. В статье речь шла о том, что миграции II в. до н.э. привели к появлению новых кочевников с востока, которые не имели прямого отношения к предшествующему сарматскому объединению, утвердившемуся к востоку от Танаиса в более раннее время.
Так что сарматы, нанесшие удар по Скифии в III в. до н.э., и кочевники, начавшие заселять территорию бывшей Скифии во II в. до н.э., это разные в значительной мере в этническом и безусловно в политическом отношении племенные объединения. Собственно «сарматы» своим происхождением были связаны с Южным Приуральем и являлись носителями сформировавшейся здесь прохоров-ской (раннесарматской) культуры. Кочевники, мигрировавшие во II в. до н.э. и достигшие степей Восточной Европы, вышли из цент-ральноазитских регионов. Родство между ними и сарматами могло осуществляться только на уровне принадлежности их к ираноязычным народам, поскольку юэчжей и тохаров, одних из основных представителей миграционного процесса II в. до н.э., считают ираноязычными. Однако языки сарматов, аорсов, а затем и аланов, несмотря на их принадлежность к одной языковой семье, в диалектном отношении могли существенно отличаться друг от друга.
Продление сарматской этнонимии до первых веков нашей эры – дань античной нарративной традиции, не отражающей исторической реальности. Это оказало влияние и на археологическую терминологию: сохраняется употребление понятий раннесарматская, среднесарматская, позднесарматская культуры, несмотря на значительные различия в материальной культуре и погребальном обряде, на почти полную смену антропологического типа населения от раннесарматской к позднесарматской культуре [Балабанова, 2007, с. 147–154]. Я не имею в виду абсолютную дискретность сарматских культур, между ними существовала преемственность, о чем мне приходилось неоднократно писать. Практически при формировании каждой сарматской культуры оставалась какая-то часть предшествующего населения, сохранявшая некоторые свои культурные элементы, но вместе с тем явно обнаруживается доминирование новых культурных традиций, как правило, миграционного происхождения. Происходили существенные изменения этнополитического плана, менялась этническая структура, в которой ведущую роль начинала играть новая племенная группировка, название которой распространялось на все объединение.
Таким образом, с VI по середину IV в. до н.э. к востоку от Дона, включая значительную часть степного Поволжья, занимали племена, именуемые савроматами. Вероятно, еще в конце первой половины IV в. до н.э. начинается захват их территории сирматами, своим происхождением связанными с Южным Приуральем, а в письменных источниках локализуемыми в районе Танаиса (Дона). Однако это не значит, что сирматы занимали исключительно эту территорию. Савроматов письменные источники тоже поселяли на Та-наисе, как позже и сарматов. Танаис длительное время для античных авторов был своеобразной границей их осведомленности о землях к востоку от него. Основываясь исключительно на археологических (погребальных) памятниках, на их сходстве, мы можем предполагать, что сирматы контролировали достаточно обширные территории к востоку от Дона. С их появлением связано начало дестабилизации в Северном Причерноморье, они явились своеобразным прологом появления сарматов. Пока сложно определить, как произошло становление племенного объединения, возглавляемого сарматами, но своим происхождением они безусловно связаны с Южным Приуральем. Окончательное оформление их объединения происходит на рубеже IV–III вв. до н.э. или в самом начале III в. до н.э. Просуществовало это объединение вплоть до первой половины II в. до н.э. Это время, когда реально существовало кочевое объединение, именуемое сарматами. Основной территорией его обитания были волго-уральские степи, откуда сарматы совершали набеги на территорию Северного Причерноморья. Античными авторами они часто продолжали именоваться савроматами, поскольку по их представлению занимали ту же территорию.
В первой половине II в. до н.э. или его середине в результате миграционных процессов от Южного Приуралья до Днепра появля- ется целый ряд новых племенных объединений со своими названиями: аорсы, сираки, роксоланы, позже – языги, аланы. В письменных источниках их продолжали именовать сарматами, поскольку и они появились в тех местах, где раньше обитали сарматы, а зачастую их продолжают называть и савроматами. Это достаточно хорошо обозначенная традиция античной литературы исторического и географического жанра придавать первоначальным названиям конкретных народов со временем расширительное значение по времени и содер- жанию. Так произошло с этнонимами «савро-маты» и «сарматы», а название конкретного народа «скифы» было распространено на все кочевые народы Евразии.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-29-01020.
The reported study was funded by RFBR, project number 20-29-01020.
Список литературы К определению содержания этнонимов "савроматы" и "сарматы"
- Балабанова М. А., 2007. Роль миграций в формировании населения савроматской и сарматской культур // Человек в культурной и природной среде : тр. Третьих антропол. чтений к 75-летию со дня рождения акад. В.П. Алексеева. М. : Наука. С. 147–154.
- Балабанова М. А., 2010. Новые данные об антропологическом типе сарматов // Российская археология. № 2. С. 67–77.
- Балахванцев А. С., 2005. Среднеазиатские дахи в IV–II вв. до н.э. : происхождение, хронология и локализация // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого. СПб. : ИИМК РАН. С. 64–67.
- Балахванцев А. С., 2017. Политическая история ранней Парфии. М. : ИВ РАН. 192 с.
- Барфилд Т., 2009. Опасная граница : кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г н.э.). СПб. : Факультет филологии и искусства СПбГУ : Нестор-История. 488 с.
- Барцева Т. Б., 1984. Результаты спектрального изучения металлических вещей из кургана 4 у хут. Сладковский // К. Ф. Смирнов. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М. : Наука. С. 141–148.
- Бернар П., Абдуллаев К., 1997. Номады на границе Бактрии (к вопросу этнической и культурной идентификации) // Российская археология. № 1. С. 68–86.
- Виноградов Ю. Г., 1997. Херсонесский декрет о «несении Диониса» IOSPE I2 343 и вторжение сарматов в Скифию // Вестник древней истории. № 3. С. 104–124.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К., Рогов Е. Я., 1997. Сарматы и гибель Великой Скифии // Донские древности. Вып. 5. Азов : Азовский краеведческий музей. С. 6–27.
- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории, 1988. М. : Наука. 452 с.
- Габелко О. Л., 2017. «... Κατ¦ς βασιλε˜ς ΦαρνÜκης Tγει»: еще раз о датировке и интерпретации IOSPE I2.402 // Античные реликвии Херсонеса : Открытия, Находки, Теории. Материалы международной научной конференции. Севастополь : ИП Бровко А.А. С. 47–52.
- Глебов В. П., 2007. Специфика становления раннесарматской культуры на Нижнем Дону // Региональные особенности раннесарматской культуры. Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. II. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 59–82.
- Граков Б. Н., 1947. ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ (Пережитки матриархата у сарматов) // Вестник древней истории. № 3. С. 100–121.
- Гумилев Л. Н., 1993. Хунну. Степная трилогия. СПб. : Тайм-аут : КОМПАСС. 222 с.
- Десятчиков Ю. М., 1973. Сатархи // Вестник древней истории. № 1. С. 131–144.
- Дзиговский А. Н., 2003. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. Одесса : Гермес. 240 с.
- Егоров В. Л., 1990. Золотая Орда : мифы и реальность. М. : Знание. 62 с.
- Железчиков Б. Ф., 1995. Население степей Южного Урала в середине I тысячелетия до н.э. // Россия и Восток: проблемы взаимодействия : материалы конф. Ч. V., кн. 2. Челябинск : Изд-во Челябинский гос. ун-т. С. 30–32.
- Клепиков В. М., 2007. Формирование раннесарматской культуры в Нижнем Поволжье // Региональные особенности раннесарматской культуры. Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. II. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 37–58.
- Литвинский Б. А., 1968. Кангюйско-сарматский фарн (к историко-культурным связям племен южной России и Средней Азии). Душанбе : Дониш. 120 с.
- Мандельштам А. М., 1972. История скотоводческих племен и ранних кочевников на юге Средней Азии : автореф. дис. ... д-ра. ист. наук. М. ; Л. 51 с.
- Мачинский Д. А., 1971. О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных письменных источников // Археологический сборник Государственного Эрмитажа Вып. 13. С. 30–54.
- Мордвинцева В. И., 2015. Сарматы, Сарматия и Северное Причерноморье // Вестник древней истории. № 1. С. 109–135.
- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М. : Наука. 51 с.
- Обельченко О.В., 1961. Лявандакский могильник // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 2. Ташкент : Изд-во АН Узбекской ССР. С. 92–176.
- Ольховский В. С., 1981. Население Крыма по данным античных авторов // Советская археология. № 3. С. 52–65.
- Очир-Горяева М. А., 1989. Савроматы и савроматская культура // Скифия и Боспор : археол. материалы к конф. памяти акад. М. И. Ростовцева. Новочеркасск : Музей истории донского казачества . С. 112–114.
- Подосинов А. В., 2002. Восточная Европа в римской картографической традиции : тексты, пер., коммент. М. : Индрик. 488 с.
- Пшеничнюк А. Х., 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV века до н.э. на Южном Урале. Уфа : ИИЯЛ УНЦ. 280 с.
- Ростовцев М. И., 1918. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма. МАР. № 37. Петроград. 102 с.
- Сапрыкин С. Ю., 1996. Понтийское царство. Государство греков и варваров Причерноморья. М. : Наука. 348 с.
- Симоненко А. В., 2010. «Гунно-сарматы» (к постановке проблемы) // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 11. С. 392–402.
- Симоненко А. В., Лобай Б. И., 1991. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. до н.э. Киев : Наукова думка. 112 с.
- Скрипкин А. С., 1982. Азиатская Сарматия во II–IV вв. (некоторые проблемы исследования) // Советская археология. № 2. С. 43–55.
- Скрипкин А. С., 1994. Были ли сарматы сарматами? // Вопросы краеведения : материалы V краевед. чтений, посвящ. 80-летию Волгогр. обл. краевед. музея. Волгоград : Перемена. С. 42–44.
- Скрипкин А. С., 2000. Новые аспекты в изучении истории материальной культуры сарматов // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 17–40.
- Скрипкин А. С., 2009а. Савроматы Геродота // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб. : Факультет филологии и искусств СПбГУ. С. 29–40.
- Скрипкин А. С., 2009б. Проблемы этнической истории Нижнего Дона в IV в. до н.э. и некоторые вопросы ранней истории сарматов // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 10. С. 171–192.
- Скрипкин А. С., 2010. К событиям V в. до н.э. на восточных границах Причерноморской Скифии // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М. : ТАУС. С. 184–191.
- Скрипкин А.С., 2013а. Версии об этнической принадлежности кочевников Южного Приуралья скифского времени // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 13. С. 21–25.
- Скрипкин А. С., 2013б. О времени появления сираков на Кубани // Шестая Международная Кубанская археологическая конференция : материалы конф. Краснодар : Эконвест. С. 385–387.
- Скрипкин А. С., 2015. Об этническом составе армии Арифарна в Боспорском конфликте конца IV в. до н.э. // Крым в войнах России : материалы Всерос. науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 19–21 октября 2015 г.). Ростов н/Д : ЮНЦ РАН. С. 12–17.
- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 293 с.
- Скрипкин А. С., 2019а. О времени появления сарматов и культурной принадлежности сарматских памятников II–I вв. до н.э. // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.) : материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь: Салта ЛДТ. С. 244–252.
- Скрипкин А. С., 2019б. Кочевой мир юга Восточной Европы во II-I вв. до н.э. (восточный инновации, факты, причины, последствия) // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 24, № 1. С. 20–34. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.1.2.
- Скрипкин А. С., Балабанова М. А., 2020. Все сарматы да сарматы // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. № 1 (3). Воронеж : Научная книга. С. 249–258.
- Скрипкин А. С., Ким М. Г., 2013. Новоузенские курганы (к проблеме миграции южноуральских кочевников в Нижнее Поволжье в IV в. до н.э.) // Археология Восточно-Европейских степей. Вып. 10. Саратов : СГУ. С. 271–280.
- Скрипкин А. С., Клепиков В. М., 2020. Археологические памятники II – I вв. до н.э. Нижнего Поволжья и некоторые этнические проблемы сарматской истории // Археологiя i давня исторiя України. Вип. 3 (36). С. 214–222.
- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М. : Наука. 379 с.
- Соколов П. М., 2010. Савроматская археологическая культура Нижнего Поволжья : проблемы хронологии и периодизации : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Махачкала. 32 с.
- Ставиский Б. Я., 1977. Кушанская Бактрия : проблемы истории и культуры. М. : Наука. 296 с.
- Таиров А. Д., Гуцалов С. Ю., 2006. Этнокультурные процессы на Южном Урале в VII–II вв. до н.э. // Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза). Челябинск : ООО ЦИКР. С. 312–365.
- Тохтасьев С. Р., 2005. Sauromatae – Sarmatae – Syrmatae // Херсонесский сборник. Вып. XIV. С. 291–306.
- Шаров О. В., 2012. Центральная Азия и миграционные процессы в Европейской Сарматии на рубеже эр : возможности исторической интерпретации // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова. Кн. 2. СПб. : Периферия. С. 396–401.
- Щукин М. Б., 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н. э. – I в. н. э. в Восточной и Центральной Европе. СПб. : Фарн. 323 с.
- Щукин М. Б., 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб. : Филологический факультет СПбГУ. 576 с.
- Яблонский Л. Т., 2007. Проблема хронологии и типологизации сарматских культур на современном этапе их изучения (в свете новейших материалов из Южного Приуралья) // Региональные особенности раннесарматской культуры. Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. II. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 4–34.
- Яблонский Л. Т., 2010. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М. : ТАУС. 384 с.
- Яблонский Л. Т., 2017. На востоке скифской ойкумены. М. : Грифон. 400 с.
- Rau P., 1929. Graber fruhen Eisenzeit im unteren Wolgagebiet. Studien zur Chronologie der skyphischen Pfeilspitzen. Pokrowsk. 112 s.