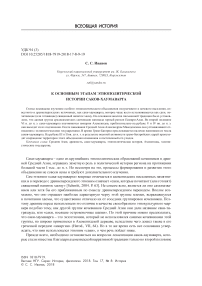К основным этапам этнополитической истории саков-хаумаварга
Автор: Иванов Сергей Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению особого этнополитического объединения полукочевого и кочевого населения, известного в древнеперсидских источниках, как саки-хаумаварга, которое чаще всего истолковывается как саки, почитающие (или готовящие) священный напиток хаому. На основании анализа письменной традиции было установлено, что данная группа среднеазиатских скотоводов занимала горный регион Памиро-Алая. Во второй половине VI в. до н. э. саки-хаумаварга подчиняются империи Ахеменидов, приблизительно на рубеже V и IV вв. до н. э. они выходят из их подчинения. После завоевания Средней Азии Александром Македонским они устанавливают отношения с эллинистическими государствами. В армии Греко-Бактрии прослеживается наличие наемников из числа саков-хаумаварга. На рубеже III и II вв. до н. э. в результате военной активности греко-бактрийских царей происходят сокращение территории этого объединения кочевников и постепенный его упадок.
Средняя азия, древность, саки-хаумаварга, этнополитическая история, ахемениды, эллинистические государства
Короткий адрес: https://sciup.org/147220009
IDR: 147220009 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-8-9-19
Текст научной статьи К основным этапам этнополитической истории саков-хаумаварга
Саки-хаумаварга – одно из крупнейших этнополитических образований кочевников в древней Средней Азии, игравших заметную роль в политической истории региона на протяжении большей части I тыс. до н. э. Но несмотря на это, процессы формирования и развития этого объединения не совсем ясны и требуют дополнительного изучения.
Сам этноним «сака-хаумаварга» впервые отмечается в ахеменидских письменных памятниках и в переводе с древнеперсидского этноним означает «саки, которые почитают (или готовят) священный напиток хаому» [Schmitt, 2004. P. 63]. Не совсем ясно, является ли оно самоназванием или хотя бы его приближенным по смыслу древнеперсидским переводом. Вполне возможно, что оно отражает наиболее характерную черту этой группы племен, выражавшуюся в почитании хаомы, что существенно отличало их от соседних группировок кочевников. Поэтому древние персы использовали это отличие в качестве своеобразного этнокультурного маркера подобно тому, как другой группе кочевников Средней Азии они дали название саки-ти-грахауда, или «саки, носящие остроконечные шапки». По этой причине можно предполагать, что саки-хаумаварга – это экзоэтноним, который не использовался самими кочевниками этой группы, но широко применялся в Ахеменидской державе, вследствие чего дошел также в его греческой передаче «амиргии» (Herod., VII, 64). Но в то же время есть все основания утверждать, что ими использовался этноним «саки», о чем речь пойдет ниже.
Прежде всего, необходимо остановиться на вопросах локализации саков-хаумаварга, которые стали известны благодаря ахеменидской нарративной традиции только во второй половине
ISSN 1818-7919.
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 8: История © С. С. Иванов, 2018
VI в. до н. э., но, вне сомнений, их объединение сформировалось гораздо ранее того времени, когда они попали в поле зрения древних персов.
В настоящее время доминирует представление, что группа саков-хаумаварга занимала крайние юго-восточные районы Средней Азии [Пьянков, 1968. С. 13–16; Piankov, 1994. P. 37– 38] – прежде всего, речь идет о горных районах Памиро-Алая, включая Гарм на северо-западе [Литвинский, 1972. С. 173–174]. Хотя можно полагать, что территория расселения этой группы саков была шире и охватывала также прилегающие с юга территории высокогорных районов Афганистана (Ваханский коридор) и Пакистана (Гилгит), с которыми зафиксированы тесные культурные связи населения древнего Памира 1. Кроме того, погребальные памятники, культурно очень близкие памирским, известны в районе современного Ташкургана в Синьцзяне (памятники типа сянбаобао), что указывает на то, что эти территории также входили в состав единого этнокультурного образования [Шульга, 2010. C. 20. Pис. 1, ˅]. Не совсем при этом ясна северная граница объединения саков-хаумаварга, которая, вероятно, доходила до южных пределов Ферганской долины [Piankov, 1994. P. 38].
Подобная локализация саков-хаумаварга вполне согласуется с данными ахеменидских источников, которые чаще всего помещают их рядом с Гандхарой – областью в северной части исторической Индии [Щеглов, 1999. С. 52–54]. На это соседство также недвусмысленно намекал Курций Руф (Curt., VII, 4. 6). В то же время Геродот указывает на соседство амиргийских саков с Бактрией (Herod., IX, 113), причем в этом случае располагаться они могли только к востоку и северо-востоку от этой исторической области [Литвинский, 1972. С. 164–165]. Данные сведения достаточно четко указывают на горные районы юго-востока Средней Азии, как места расселения саков-хаумаварга.
Таким образом, местами проживания саков-хаумаварга вполне уверенно можно считать горные районы Памира, Алая и прилегающих районов Афганистана, Пакистана и Синьцзяна.
Несмотря на то, что саки-хаумаварга упоминаются только со второй половины VI в. до н. э., формирование этнополитического объединения саков-хаумаварга начинается гораздо раньше – уже в VIII–VII вв. до н. э. Именно с этого времени начинает оформляться комплекс культурных черт, характерных для погребальных памятников Памира на протяжении всего сак-ского периода. Правда, не совсем ясно, откуда шел интеграционный импульс, который привел к оформлению объединения саков-хаумаварга. Впрочем, и само объединение относительно изолированных горных районов юго-востока Средней Азии и прилегающей части Афганистана и Пакистана шло относительно медленно и продолжалось на протяжении нескольких столетий уже в составе саков-хаумаварга. Это хорошо прослеживается на археологических материалах, где четко заметны два культурных ареала: памирский и алайский, которые существенно различаются, причем не только по облику культуры, но и, судя по всему, по первоначальной этнической основе.
Алайский вариант культуры по своему облику тяготеет к кочевникам Притяньшанья, хотя и имеет все же ощутимое своеобразие [Ташбаева, 2011. С. 143–145, 158–164]. В то время как памирский вариант культуры [Литвинский, 1972. С. 132–134], вероятнее всего, складывался на основе местного населения, родственного, по-видимому, позднейшим буришкам, но все же при сильнейшем культурном влиянии раннескифских культур Синьцзяна и Саяно-Алтая. Можно предполагать, что местный субстрат был ассимилирован более малочисленными пришельцами, но в то же время сыграл заметную роль в формировании общего облика культуры. Это в свою очередь позволяет предполагать, что в формировании культуры Алая и Памира приняла участие общая миграционная волна, имевшая место в самом начале I тыс. до н. э. [Бернштам, 1952. С. 210–211, 324–325].
Однако хорошо заметно взаимное влияние обоих культурных вариантов, разделенных также и существенными естественными преградами – высокими горными хребтами и труднодо- ступными перевалами. Впрочем, это не помешало формированию общего, достаточно устойчивого этнополитического образования.
Подобное этнокультурное взаимодействие между Алаем и Памиром прослеживается также и на основе антропологических материалов. С одной стороны, заметно проникновение средиземноморского элемента с Памира на Алай, причем отмеченное преимущественно по женским черепам; с другой, прослеживается и обратная инфильтрация антропологических признаков, свойственных сакскому населению Алая, что особенно заметно в прилегающей к нему северо-восточной части Памира. Это можно объяснить только интенсивными брачными контактами двух групп населения, которые могли быть возможны в рамках единого этнополитического объединения [Тур, 1997. С. 11–12, 21–22; Ташбаева, 2011. С. 171; Ходжайов, Ходжайова, 2015. С. 83–84; Бубнова, 2015. С. 34].
Становление общего культурного пространства способствовало упрочению этнических контактов и усилению политического сближения скотоводческих племен горных районов юго-востока Средней Азии, что постепенно приводит к оформлению не ранее рубежа VII и VI вв. до н. э. нового этнополитического образования саков-хаумаварга.
По-видимому, они к этому времени играли уже заметную политическую роль в регионе, поскольку в период покорения персидским царем Киром II Средней Азии они оказали персам ощутимое сопротивление, что нашло отражение в труде Геродота, упомянувшего, что в числе его важнейших противников были «Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне» (Herod., I, 153. 4). То, что под «саками» здесь имеются в виду именно саки-хаумаварга, не вызывает особых сомнений, поскольку в нескольких ранних ахеменидских надписях, в том числе в Бе-хистунской, они упомянуты в том же качестве [Литвинский, 1972. С. 163–164; Дандамаев, 1985. C. 102–103]. И только после включения в состав империи Ахеменидов других групп кочевников они получают уточняющий эпитет «хаумаварга», чтобы отличать их от иных этнополитических объединений номадов. А учитывая сведения Плиния о том, что персы всех кочевников «назвали обобщающе саками от ближайшего племени» (Plin., N. H., VI, 50), можно с полным основанием утверждать, что именно данная группа кочевников использовала этноним «саки» в качестве самоназвания [Пьянков, 1968. С. 12–18].
Ожесточенное сопротивление, оказанное персам саками-хаумаварга, объясняется, по-види-мому, не только тесными этническими и политическими взаимосвязями кочевого и полукочевого населения Памиро-Алая с соседними земледельческими областями (особенно с Бактрией), но и также теснейшими экономическими взаимоотношениями между ними. Последние были особенно важны для скотоводческого населения высокогорных районов региона, нуждавшегося в получении продуктов земледелия из соседних областей региона. Поэтому покорение древними персами земледельческих областей Средней Азии, нарушившее издавна сложившиеся взаимосвязи с окружавшими их номадами, вполне закономерно вызвало военное столкновение с населением соседних кочевых и полукочевых районов. Как считает М. А. Дандамаев, саки-хаумаварга были покорены Ахеменидами уже при Кире II, в период с 545 по 539 г. до н. э., и с этого времени они достаточно прочно вошли в состав древнеперсидского царства [1985. С. 28–29].
В период 522–521 гг. саки-хаумаварга принимают участие в грандиозном восстании среднеазиатских народов против Дария I и, нужно полагать, оказывают повстанцам действенную помощь. Но после подавления очагов антиперсидского движения в регионе они возвращаются под контроль Ахеменидов [Там же. С. 103–104]. Вероятно, что они были вновь покорены в результате очень локальной военной акции, проведенной остававшимся верным Дарию I на протяжении всего восстания в Средней Азии сатрапом Бактрии Дадаршишем, либо добровольно подчинились власти персидского царя после разгрома основных очагов восставших в регионе [История таджикского народа, 1998. С. 256].
При Дарии I (522–486 гг. до н. э.) саки-хаумаварга, наряду с саками-тиграхауда 2 и восточными каспиями (каспирами) 3, которые занимали северные районы Индии – входят в XV сатрапию, представлявшую собой огромное искусственное объединение горных районов на самом востоке империи Ахеменидов. Помимо выплаты дани, которая, судя по древнеперсидским рельефам из Персеполя (делегация № 11 Ападаны) 4, взималась не только серебром, золотом, но и драгоценными и полудрагоценными камнями, конями, оружием и другими ценными предметами [Schmidt, 1953. P. 43; История таджикского народа, 1998. С. 259, 262], саки-хаумавар-га вынуждены были также поставлять в персидскую армию воинские контингенты для участия в военных кампаниях. Так, они принимают участие в Греко-персидских войнах (500–449 гг. до н. э.) (Herod., VI, 133; VIII, 113; IX, 31, 71), а также, видимо, в других локальных конфликтах, которые велись Ахеменидами.
При этом, в ходе в военной кампании Ксеркса в Греции саки-хаумаварга, по-видимому, сражались в едином сводном контингенте вместе с саками-тиграхауда. В пользу этого указывает один из пассажей Геродота, где сообщается, что «амиргийские саки», в которых мы без сомнения можем видеть саков-хаумаварга, были одеты в высокие, островерхие шапки (Herod., VII, 64). Но они не носили подобного рода головные уборы, что хорошо известно по их изображениям на ахеменидских рельефах. В то же время подобные высокие башлыки были отличительной чертой другой группы среднеазиатских кочевников – саков-тиграхауда. Это позволяет сделать вывод, что Ахемениды свели воинов этих двух групп кочевников в единый отряд. Это выглядит еще более закономерным, если учесть, что они входили в тот момент в состав одной сатрапии.
Персы особо ценили боеспособность воинских отрядов кочевников Средней Азии и по этой причине способствовали созданию военных колоний саков на территории Месопотамии, где они получали специальные воинские земельные наделы, за которые должны были нести потомственную военную службу в ахеменидских войсках [Дандамаев, 2009. C. 322–326]. Но, по-видимому, в этих колониях селились не только саки-хаумаварга, но и выходцы из других кочевых областей Средней Азии.
Однако глубокий политический кризис в государстве Ахеменидов на рубеже V и IV вв. до н. э., приведший к значительному ослаблению центральной власти [Там же. С. 240–246], вызвал также заметное ослабление власти персов в Средней Азии. Как представляется, именно на волне этих событий становятся независимыми Хорезм [Балахванцев, 2006. С. 371–373] и, видимо, саки-тиграхауда. Вероятно, звеном в цепи этих же событий стал выход из повиновения и высокогорных районов, занимаемых саками-хаумаварга, где и прежде власть Ахеме-нидов была не особенно сильна.
Впрочем, выход этой группы саков из подчинения персам не сопровождался военным конфликтом с последними, поскольку уже в IV до н. э. они считались союзниками империи Ахе-менидов (Arr., III, 8. 3). Поэтому можно предполагать, что персы вынуждены были проявить гибкость для сохранения стабильности в подвластных им земледельческих областях Средней Азии и пойти на выстраивание долговременных союзнических отношений с кочевыми объединениями региона, в том числе и с саками-хаумаварга. Причем последние продолжали поставлять воинов в ахеменидскую армию, но теперь уже в качестве наемных отрядов.
Подобный крупный отряд под предводительством Мавака принял участие на стороне персов против войск Александра Македонского в знаменитом сражении при Гавгамелах (Арбелах) в 331 г. до н. э., решившем судьбу государства Ахеменидов [Шофман, 1976. С. 90; Абдуллаев, 2002. С. 14]. При этом античная традиция особо подчеркивает, что данные саки не являются подданными персидского царя, а лишь его союзниками (Arr., III, 8. 3), чтобы отличить их от потомков сакских военных колонистов Месопотамии.
Сомневаться, что в битве при Гавгамелах принимали участие именно саки-хаумаварга, не приходится. Поскольку именно термин «саки» античные источники, повествующие о походах Александра Македонского на Восток, применяют только по отношению к кочевникам, жившим северо-восточнее Бактрии [Щеглов, 2006. С. 288–291], т. е. только по отношению к группе саков-хаумаварга.
После разгрома персидской армии при Гавгамелах ее остатки отошли в Мидию вместе с бежавшим туда Дарием III, после чего ее отряды, сформированные по этническому признаку, разошлись по родным областям [Kuhrt, 2007. P. 447]. Нужно полагать, что и остатки контингента саков-хаумаварга вернулись на родину, не приняв какого-либо существенного участия в событиях окончательного крушения государства.
Видимо, впечатлением, произведенным крушением империи Ахеменидов и столкновением с греко-македонским войском при Гавгамелах, можно объяснить ту выжидательную позицию, которую заняли саки-хаумаварга во время военной кампании Александра Македонского в Средней Азии.
Известно, что вскоре после поражения засырдарьинских «скифов» в 329 г. до н. э. в битве на реке Яксарт / Танаис саки-хаумаварга посылают к Александру Македонскому посольство, которое, по словам Курция Руфа, было милостиво принято македонским царем. В этом отношении интересно замечание, что саки были впечатлены снисходительностью к пленным «скифам», которых Александр отпустил без выкупа, что и стало причиной отправки посольства (Curt., VII, 9. 17–19). Складывается впечатление, что саки-хаумаварга не без оснований опасались нападения греко-македонских войск. Причина подобных опасений может быть сокрыта в том, что данная группировка кочевников традиционно была верным союзником Ахеменидов в регионе, и их крупный отряд даже принимал участие на стороне персов в сражении при Гав-гамелах. Поэтому они решили отправить посольство, чтобы заверить македонского царя в своем миролюбивом расположении.
Однако Александр Македонский в этом случае пошел на хитрость. Милостиво приняв сак-ских послов, он отправляет с ними одного из своих гетайров – Эксципина, которому фактически выпала роль быть лазутчиком. Это показывает, что македонский царь не оставлял возможности нападения на саков-хаумаварга.
В начале 327 г. до н. э., после окончательного покорения Согдианы, Александр внезапно нападает на саков-хаумаварга. Греко-македонские войска шесть дней продвигались по пустынным, гористым территориям, пока не достигли владений саков, опустошив которые, захватили огромное количество скота – 30 тыс. голов (Curt., VIII, 4. 20). Как не без оснований считает Д. А. Щеглов, такое огромное количество скота воины Александра могли захватить только в Алайской долине, которая издревле была богата прекрасными пастбищами [2006. С. 284– 285].
Саки же, как видно из развития событий, не были готовы к такому вторжению, отчего практически не оказали сопротивления внезапному нападению войск Александра. Сам же македонский царь подобной военной акцией достиг несколько целей: продемонстрировал силу и ослабил бывшего союзника Ахеменидов в регионе, что могло удержать саков-хаумаварга от враждебных действий после ухода основных сил Александра в Индию.
Последующее укрепление власти эллинистических государств в Средней Азии открывает новую страницу в истории этнополитического объединения саков-хаумаварга. И если их взаимоотношения с государством Селевкидов не совсем ясны, то формирование в середине III в. до н. э. независимого Греко-Бактрийского царства налагает существенный отпечаток на политическое положение этой группы кочевников.
Взаимоотношения Греко-Бактрии со своей кочевой периферией на восточной границе носили комплексный характер. С одной стороны, находки значительного количества типичных сак-ских бронзовых наконечников стрел на различных городищах, в том числе в арсенале крупного городища Ай-Ханум, позволяют говорить о наличии значительного количества сакских наем- ников в греко-бактрийских войсках [Ягодин, 1984. С. 48. Рис. 1, 15; Pис. 5, 9–10; Литвинский, 2001. С. 75–77. Tабл. 18, 29–31; Табл. 19, 47–48]. Поскольку маловероятно, чтобы греческие или коренные бактрийские отряды использовали столь специфические формы стрел, поэтому их сакская принадлежность неоспорима. Наличие наемных сакских отрядов в армии Греко-Бак-трии подтверждается также греческой надписью на коже из Северного Афганистана, в которой указывается о принятии на службу подобного отряда царем Антимахом I, время правления которого определяется различными исследователями в промежутке между 185 и 165 гг. до н. э. [Clarysse, Thompson, 2007. S. 275–277]. Не приходится сомневаться, что подобная практика имела место и ранее первой половины II в. до н. э., что полностью согласуется с упомянутыми находками специфических наконечников стрел на памятниках эллинистической Бактрии 5.
С другой стороны, вдоль большей части среднего и нижнего течения Пянджа по обоим берегам реки была построена цепь крепостей, чтобы, вероятно, охранять от кочевников торговые пути, шедшие на восток через Ваханский коридор – в государства Восточного Туркестана [Мандельштам, 1957. С. 77]. По-видимому, большая часть крепостей была построена на рубеже III и II вв. до н. э. в период военной активности царей Эвтидема (ок. 225–190 гг. до н. э.) и его сына Деметрия I (ок. 190–171 гг. до н. э.), которые, как известно, совершили несколько кампаний против кочевников на северо-восточных границах и, возможно, установили даже временный контроль над самыми юго-западными областями современного Синьцзяна (Strab., XI, 11. 1). Это позволяет предполагать, что в это время происходит сокращение территории объединения саков-хаумаварга, вследствие чего оно постепенно начинает приходить в упадок [Иванов, 2012. С. 35–37].
Сокращение же пастбищ могло негативно сказаться на социально-экономической обстановке в среде саков-хаумаварга, только ускорив их ослабление. На фоне возможной потери контроля над соседними земледельческими районами, дальнейшего ослабления экономических связей со среднеазиатскими оседлыми областями, а также Северной Индией, такой кризис еще более вероятен.
Поэтому нужно полагать, что военная активность греко-бактрийских правителей на рубеже III и II вв. до н. э. в значительной мере ослабляет объединение саков-хаумаварга. Но к окончательному упадку данное объединение, вероятно, приводят существенные передвижения кочевников в середине II в. до н. э. Как считается, через территорию Памира в Северную Индию прошли отдельные группы саков Притяньшанья (известных ранее под этнополитонимом са-ков-тиграхауда), выдавленные оттуда миграцией с востока юэчжей [Pulleyblank, 1970. P. 157– 159].
На рубеже эр к югу от Ферганской долины уже известен целый ряд самостоятельных кочевых и полукочевых племен [Бернштам, 1952. С. 190–193, 204; Литвинский, 1972. С. 188], что указывает на окончательный кризис и распад к I в. до н. э. некогда могущественного этнополитического объединения саков-хаумаварга. При этом, видимо, какая-то его часть была увлечена движением на юг – в Индию, где они приняли участие в создании новых политических объединений. Оставшаяся же на Памире часть племенного объединения саков-хаумаварга, по-видимому, внесла вклад в формирование последующих памирских народностей.
Список литературы К основным этапам этнополитической истории саков-хаумаварга
- Абдуллаев К. Александр и номады Средней Азии // Цивилизации Центральной Азии: земледельцы и скотоводы, традиции и современность. Самарканд, 2002. С. 14-15.
- Балахванцев А. С. К вопросу о времени отпадения Хорезма от державы Ахеменидов: источниковедческий аспект // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Новая серия. Т. 2 (27). СПб., 2006. С. 365-375.
- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Материалы и исследования по археологии СССР. № 26. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 345 с.
- Бубнова М. А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской автономной области. Восточный Памир. Душанбе: УЦА, 2015. 280 с.
- Бубнова М. А. Кто освоил пастбища Восточного Памира в I тыс. до н. э.? // Древние культуры Евразии. СПб., 2010. С. 135-141.
- Дандамаев М. А. Месопотамия и Иран в VII-IV вв. до н. э. Социальные институты и идеология. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 512 с.
- Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука, 1985. 319 с.
- Иванов С. С. Военно-политические взаимоотношения саков Семиречья и Тянь-Шаня с Греко-Бактрией // Билим жана тарбия. 2012. № 1 (13). С. 35-38.
- Иванов С. С. К вопросу о зажимных бронзовых наконечниках стрел // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек, 2007. Вып. 2. С. 64-70.
- Иванов С. С. К вопросу об этнической идентификации древних кочевников Притяньшанья в сакский период // Комплексный подход в изучении природы, общества и человека. Бишкек, 2015. С. 116-121.
- История таджикского народа. Душанбе: Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша, 1998. Т. 1: Древнейшая и древняя история. 751 с.
- Литвинский Б. А. Древние кочевники «крыши мира». М.: Наука, 1972. 272 с.
- Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии. М.: Вост. лит., 2001. Т. 2: Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. 528 с.
- Мандельштам А. М. Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских областей. Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1957. 181 с.
- Пьянков И. В. Саки (содержание понятия) // Изв. АН ТаджССР. Отделение общественных наук. 1968. № 3 (53). С. 12-19.
- Ташбаева К. И. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая. Бишкек: Илим, 2011. 274 с. Тур С. С.
- Кочевники Кыргызстана сако-усуньского времени (по материалам палеоантропологического исследования): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 1997. 25 с.
- Ходжайов Т. К., Ходжайова Г. К. К проблеме формирования антропологического состава киргизов // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 3 (30). С. 82-91.
- Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1976. 522 с.
- Шульга П. И. Синьцзян в VIII-III вв. до н. э. Погребальные комплексы. Хронология и периодизация. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2010. 240 с.
- Щеглов Д. А. Кочевые народы Средней Азии по сведениям историков Александра Македонского // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Новая серия. Т. 2 (27). СПб., 2006. С. 276-316.
- Щеглов Д. А. Структура «списков стран» древнеперсидских надписей // Изучение культурного наследия Востока. Культурные традиции и преемственность в развитии древних культур и цивилизаций. СПб., 1999. С. 52-55.
- Ягодин В. Н. Бронзовые наконечники стрел из Южной Бактрии // Древняя Бактрия. М., 1984. Вып. 3: Материалы Советско-Афганской экспедиции. С. 33-57.
- Clarysse W., Thompson D. J. Two Greek Texts on Skin from Hellenistic Bactria // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2007. Bd. 159. S. 273-279.
- Kuhrt A. The Persian Empire. A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. Abingdon; New York: Routledge, 2007. Vol. 1. 465 p.
- Piankov I. V. The Ethnic History of the Sakas // Bulletin of the Asia Institute: the Archaeology and Art of Central Asia. Studies from the former Soviet Union. New Series. 1994. Vol. 8. P. 37-46.
- Pulleyblank E. G. The Wu-sun and Sakas and the Yüeh-chih Migration // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1970. Vol. 33. Pt. 1. P. 154-160.
- Schmidt E. F. Persepolis. Chicago: The University of Chicago, Oriental Institute Publications, 1953. Vol. 1: Structures, reliefs, inscriptions. 612 p.
- Schmitt R. Haumavargā // Encyclopedia Iranica. 2004. Vol. 12. Fasc. 1. P. 63-64.