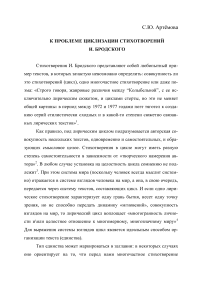К проблеме циклизации стихотворений И. Бродского
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Вопросы циклизации
Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.
Бесплатный доступ
Лирический цикл, иосиф бродский
Короткий адрес: https://sciup.org/14914059
IDR: 14914059
Текст статьи К проблеме циклизации стихотворений И. Бродского
Стихотворения И. Бродского представляют собой любопытный пример текстов, в которых зачастую невозможно определить: совокупность ли это стихотворений (цикл), одно многочастное стихотворение или даже поэма: «Строго говоря, жанровые различия между “Колыбельной”, с ее исключительно лирическим сюжетом, и циклами стерты, но это не меняет общей картины: в период между 1972 и 1977 годами поэт тяготел к созданию серий стилистически сходных и в какой-то степени сюжетно связанных лирических текстов»1.
Как правило, под лирическим циклом подразумевается авторская совокупность нескольких текстов, одновременно и самостоятельных, и образующих смысловое целое. Стихотворения в цикле могут иметь разную степень самостоятельности в зависимости от «творческого намерения ав-тора»2. В любом случае установка на целостность цикла сомнению не под-лежит3. При этом система мира (поскольку человек всегда мыслит системно) отражается в системе взглядов человека на мир, а она, в свою очередь, передается через систему текстов, составляющих цикл. И если одно лирическое стихотворение характеризует одну грань бытия, несет одну точку зрения, но не способно передать динамику «мгновений», совокупность взглядов на мир, то лирический цикл воплощает «многогранность личности и\или целостное отношение к многомерному, многозначному миру»4 Для выражения системы взглядов цикл является идеальным способом организации текста (единства).
Тип единства может маркироваться в заглавии: в некоторых случаях оно ориентирует на то, что перед нами многочастное стихотворение
(«Письм о к А.Д.», I, 144)5 или цикл стихотворений («Письм а династии Минь», III, 154). Но заглавие может и противоречить типу единства: «Письм а к стене» (II, 21), несмотря на множественное число в заглавии, оказываются текстом, не имеющим отношения к лирическому циклу.
Самостоятельность стихотворений внутри цикла подчеркивается разными стихотворными размерами, индивидуальными заглавиями, нумерацией или любыми другими отделяющими тексты графическими знаками (в текстах И. Бродского иногда вместо заглавия стоят три астериска (***), в VII-томнике замененные тремя значками-ромбами). При этом стихотворения цикла обязательно имеют общий паратекст (заглавие, иногда датировку написания и эпиграф). Таким образом обеспечивается единство стихотворений в цикле.
В поэзии И. Бродского классические циклы, воплощающие целостную концепцию бытия или систему отношений к миру, систему точек зрения, представлены довольно широко. Это циклы, где единая структура образуется за счет не столько тематики, сколько циклообразующих связей. Таковы «Письма династии Минь» или «Письма римскому другу» (III, 10), хотя последний текст больше похож на многочастное стихотворение. О том, что это цикл, а не одно стихотворение, состоящее из частей, свидетельствует хотя бы тот факт, что в самиздатном варианте каждый текст цикла помещался на отдельном листе6.
Кроме классических циклов, воплощающих систему взглядов на системный мир, в поэзии Бродского существуют лирические циклы (или тексты, напоминающие циклы), которые демонстрируют специфику мироощущения поэта. Если суть цикла состоит в том, чтобы с помощью соположения нескольких точек зрения выстраивать системную и концептуальную картину мира из «точек», «мгновений», то в некоторых текстах-«циклах» Бродского не только декларируется, но и воплощается ощущение асистемности мира; единства, выглядящие как циклы, демонстрируют принципиальную невозможность выстраивания целостного, гармоничного мира из частей. В цикле обнажается асистемность материала, которая передает ощущение асистемности мира.
Например, «Письмо генералу Z» внешне выглядит как цикл из пяти стихотворений, разделенных графическими значками. Но заглавие ориентирует на то, что это скорее многочастное стихотворение («письмо» – в единственном числе, ср. «письма» во множественном числе – циклы «Письма римскому другу», «Письма династии Минь»). Факт существования текста на границе стихотворения / цикла для Бродского не единичен. Так, восприятию «Писем к стене» (II, 21) как одного стихотворения противоречит заглавие во множественном числе. Содержание понятий «письмо» и «письма» оказывается предельно сближено. Если в «Письме генералу Z» стихотворения цикла являются как бы вариантами письма, то в «Письмах к стене» можно предположить соответствие строфы – письму. По сути, цикл предстает как усложненная форма строфических (гиперстрофических7) частей. Ситуация «мерцания» на границе стихотворения / цикла сохраняется и в «Письме в бутылке» (II, 68), где текст формально один, но пометки «размыто» превращают его в набор фрагментов, утративших целостность. Безусловно, цикл и фрагментарный текст представляют собой разные способы создания целостности. Но в данном случае эти способы оказываются сближены и обусловлены одной причиной – попыткой адекватного воплощения ощущения асистемного, разрозненного мира.
То единство, которое в литературной традиции обозначалось как цикл и адекватно воплощало систему взглядов, у Бродского не выстраивает мир как целое, а демонстрирует невозможность его системного восприятия. «Смысловая цельность “Писем…” <римскому другу – С.А. > обеспечивается единством лирической ситуации и объединяющим все строфы, за исключением двух последних, лирическим Я»8, – пишет Н.Г. Медведева, и эта оговорка относительно двух последних строф не является случайной.
Циклы Бродского не вписываются в традиционные типы циклических построений, и исследователи такие «отклонения от нормы» не могут не учитывать: «“Колыбельная Трескового мыса” (1975) (заглавие которой, впрочем, противится ее жанровому определению в качестве цикла)…»9.
В то же время один стихотворный текст, традиционно несущий лишь одно «мгновение сердечной концентрации», одну точку зрения, в лирике Бродского может уподобляться циклу, становясь способом воссоздания всей полноты, целостности бытия. Бродский делает принципиально новый в лирике шаг: множество неиерархичных, принадлежащих разным субъектам точек зрения сосуществует в пределах одного стихотворения. Таково стихотворение «Письма к стене». Стена здесь – и биографическая подробность (стена тюрьмы предварительного заключения), и символ надежды (Стена Плача в Иерусалиме, к которой приходят с заветными желаниями). Так намечается двойственность адресата, который выступает то во 2-м («завещаю тебе »), то в 3-м лице («обращаюсь к стене »). Лирический субъект одновременно и «я», и «он» – задается несколько точек зрения на ситуацию, намечается возможность взглянуть на себя со стороны. В стихотворении речь идет не только о степени фиктивности адресата (о возможности общения со стеной), но и о сущности письма как такового: адресант пишет его в присутствии адресата-стены, разрушая ситуацию преодоления письмом расстояния между отправителем и получателем. Общение оказывается фиктивным. Более того, заглавие ориентирует на не– единичность, повторяемость фикции (не «письмо», а «письма»). И тогда стихотворение становится как бы моделью мира в сжатом виде, в нем воплощается концепция дискретного бытия.
Таким образом, оказывается, что сложность, многогранность мира в поэзии Бродского может быть передана не только через лирический цикл, но и через «нанизывание» точек зрения в одном стихотворении. Такой лирический текст принципиально не может быть завершенным: невозможно ни исчерпать точки зрения, ни найти истинную. В незавершенности проявляется его близость к эпосу. Но если эпос предполагает создание единой модели мира, то в стихотворении Бродского единой, целостной картины мира не создается, так как нет ничего, что «скрепляло» бы разрозненные сознания. Декларация «раз- \ розненный мир черт \ нечем соединить» воплощается в лирической композиции стихотворения, построенного на смене разрозненных и относительно самостоятельных взглядов. Поэтому можно предположить, что концепция бытия, воссоздаваемая в стихотворении Бродского, – нечто принципиально новое для лирики, как бы перенесение в лирический текст «полифонии полноценных голосов» (М.М. Бахтин) – голосов принципиально неслиянных, так как «то ли по льду каблук скользит, то ли сама земля \ закругляется под каблуком» (III, 126). Сознание лирического субъекта не может соединить в целостность все точки зрения, поскольку и «человек, должно быть, ограничен. \ У человека есть свой потолок…» (II, 137). Приходится лишь констатировать, что есть «потолок понимания» и, кроме точки зрения человека (лирического субъекта), существуют точка зрения ворон, каблука, воздуха…
Ощущение мира как раздробленного единства, представленное в «письмах» Бродского, вступает в диалог с традицией. Дело в том, что традиционное послание предполагает общность мира отправителя письма и его конкретного, эксплицированного в тексте адресата: у дискурсов отправителя и получателя должен быть один общий код и «общая память» (Ю.М. Лотман), необходимые для успешной коммуникации. Обособление кода отправителя предполагает и невозможность диалога с собеседником в «письме» (происходит трансформация «письма» как первичного жанра), и невозможность монолога-автокоммуникации, системного взгляда на мир (трансформация цикла как вторичной жанровой формы). Поэтому в «письмах» возникает ощущение дискретного мира, адекватное типу единства текста: как бы и не цикл, и не многочастное стихотворение.
Если, вслед за М.Н. Дарвином и Л.Е. Ляпиной, говорить о цикле как частном виде циклизации, характеризующей лирику XIX – начала XX вв., а циклизацию определять как тенденцию к группировке, то в поэзии Бродского действует, скорее, тенденция к обособлению частей. На фоне предшествующей литературы, где идет процесс выделения из всех способов циклизации одного – авторского цикла, тексты Бродского представляют собой пример другой тенденции: авторский цикл трансформируется в нечто принципиально иное, приближается вновь то ли к многочастному, то ли к фрагментарному (но в любом случае дискретному) тексту. При этом семантически важно у Бродского указание на отсутствие связей, маркировка раздробленности. Это позволяет предположить, что в некоторых текстах Бродского происходит разрушение традиционного способа соположения частей, свойственного циклу, разрушение привычных связей ради воссоздания ощущения релятивности мира.
-
1 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 196.
-
2 Дарвин М.Н . Цикл // Введение в литературоведение. М., 2000. С. 485.
-
3 См. о цикле как форме целостности: Дарвин М.Н. Указ. соч.; Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб., 1999. С. 8–17; Фоменко И.В. О поэтике лирического цикла. Калинин, 1984.
-
4 Фоменко И.В. Указ. соч. С. 18.
-
5 Цит. по: Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. Изд. 2-е. СПб., 1998–2001. Римской цифрой обозначается том, арабской – страница.
-
6 Об этом см.: Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russian Literature. 1995. № 37. S. 311.
-
7 Об усложнении строфики и гиперстрофах см.: Лотман М.Ю . Указ. соч.
-
8 Медведева Н.Г. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седаковой. Ижевск, 2006. С. 355.
-
9 Там же. С. 61.
Список литературы К проблеме циклизации стихотворений И. Бродского
- Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 196.
- Дарвин М.Н. Цикл//Введение в литературоведение. М., 2000. С. 485.
- Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб., 1999. С. 8-17.
- Фоменко И.В. О поэтике лирического цикла. Калинин, 1984.
- Фоменко И.В. Указ. соч. С. 18.
- Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. Изд. 2-е. СПб., 1998-2001.
- Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского//Russian Literature. 1995. № 37. S. 311.
- Медведева Н.Г. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седаковой. Ижевск, 2006. С. 355.
- Там же. С. 61.