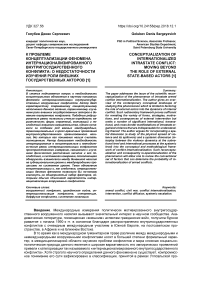К проблеме концептуализации феномена интернационализированного внутригосударственного конфликта: о недостаточности изучения роли внешних государственных акторов
Автор: Голубев Денис Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о необходимости концептуального обновления в научном понимании феномена интернационализации внутригосударственных вооруженных конфликтов. Автор дает характеристику современному концептуальному наполнению данного явления, ограниченному изучением роли внешних государственных акторов в динамике внутреннего конфликта. Подобные редуцированные рамки позволили ученым определить вариативность форм, стратегий, мотиваций и последствий внешнего вмешательства, однако оставили за скобками ряд важных международных, транснациональных и кросс-граничных проявлений внутригосударственного организованного насилия, без которых его понимание нельзя считать полноценным. Автор доказывает необходимость инкорпорирования в концептуальные и методологические рамки интернационализации конфликтов пространственного измерения, связанного с изучением физического расползания насилия и его последствий, и системного измерения, позволяющего обнаружить взаимосвязи между динамикой насилия на субнациональном уровне и международными процессами на системном уровне. Такое обновление концептуализации и, как следствие, операционализации данного феномена позволило бы по-новому взглянуть на общепринятый набор факторов, которыми обычно объясняют вероятность интернационализации вооруженных конфликтов.
Вооруженный конфликт, гражданская война, интернационализация конфликта, интервенция, диффузия конфликта, системная эскалация
Короткий адрес: https://sciup.org/149132363
IDR: 149132363 | УДК: 327.56 | DOI: 10.24158/pep.2018.12.1
Текст научной статьи К проблеме концептуализации феномена интернационализированного внутригосударственного конфликта: о недостаточности изучения роли внешних государственных акторов
Введение . Международные измерения политически мотивированного внутригосударственного вооруженного насилия вызывают значительный интерес в научном сообществе. Академическая литература, посвященная «внешним» аспектам гражданских войн, получила бурное развитие с начала 1990-х гг. в основном благодаря распространению внутригосударственных конфликтов с очевидным международным участием в Южной Европе, на постсоветском пространстве, в Африке и на Ближнем Востоке.
В то время как в международном гуманитарном праве различие между международными и немеждународными вооруженными конфликтами носит в большей степени формальный характер, в междисциплинарной области изучения проблем конфликтов и мира сложная социальнополитическая природа данного явления и широкая вариативность его эмпирических проявлений привели к категоризации так называемого «интернационализированного внутригосударственного конфликта». Хотя строгого научного определения данного феномена не существует, компромиссное понимание его сути зафиксировано в классификации, принятой в рамках Уппсальской про- граммы данных по конфликтам, в соответствии с которой интернационализированный внутренний вооруженный конфликт (internationalized internal armed conflict) протекает между правительством государства и оппозиционной (-ми) группой (-ми) при одновременном вмешательстве других государств (в качестве вторичных акторов) в пользу одной или обеих сторон [2].
Однако совокупность теоретических и эмпирических знаний, накопленных к настоящему времени о динамике внутригосударственного организованного насилия, позволяет поставить вопрос о недостаточности данных концептуальных рамок для понимания того, как и почему структура внутригосударственного конфликта расширяется, приобретая международное измерение. В статье предпринята попытка, зафиксировав текущее состояние научных знаний о роли внешних акторов в гражданских войнах [3], обосновать необходимость обновления концептуализации феномена интернационализированного внутреннего конфликта за счет инкорпорации иных, прежде всего пространственных и системных, измерений.
Что мы знаем о роли внешних акторов во внутригосударственных вооруженных конфликтах? Хотя проблемы превращения внутренних вооруженных конфликтов в драйверы межгосударственных вооруженных столкновений стали объектом пристальных научных изысканий относительно недавно [4], различные аспекты вмешательства внешних акторов в ход гражданских войн (интервенций) уже достаточно хорошо изучены [5]. Нацеленность внешних акторов на тот или иной исход внутреннего конфликта связана с конкретными стратегическими интересами или идентичностными факторами и обусловливает вмешательство на стороне или центрального правительства (группы, контролирующей правительство), или вооруженной оппозиции. Формы и уровни вмешательства могут варьировать от прямой военной интервенции до относительно низкоинтенсивных и малозатратных стратегий поставок оружия и оказания логистической помощи как открыто, так и тайно, а также предоставления финансовой, политической и дипломатической поддержки одной или обеим воюющим сторонам. Если вмешательство направлено на поддержку оппозиции и приобретает форму прямой военной интервенции, внутригосударственный конфликт может фактически трансформироваться в межгосударственный.
Одним из ключевых аспектов механизма интервенции является процесс принятия соответствующего решения (о том, вмешаться или нет в ход вооруженного конфликта в другом государстве), которое всегда зависит от пересечения двух фундаментальных условий - мотивации и возможности. Наличие последней для интервенции может быть связано с ситуацией, характеризующей объект вмешательства (ослабление охваченного гражданской войной государства), субъект вмешательства (политическая поддержка или отсутствие сопротивления решению со стороны оппозиционных сил и (или) общественного мнения), а также ограничения внешней среды (отсутствие блокирующих условий со стороны международного сообщества на региональном либо глобальном уровне). Мотивы для интервенции обычно определяются в научной литературе как инструментальные (геополитические интересы, территориальные амбиции, экономическая выгода, внутриполитическая повестка дня и др.), аффективные (исторические обиды, родственная этническая и религиозная идентичность, расово-культурная близость, общие идеологические принципы и др.) либо являются комбинацией этих двух типов. В связи с этим оценка мотивации в конкретно-исторических примерах вмешательства внешних акторов обычно ограничивается одним из следующих общих сценариев.
-
1. Оппортунистическая интервенция . Такое вмешательство обычно направлено против центральных властей и нацелено на использование внутренней нестабильности в государстве, являющемся стратегическим противником, для его ослабления или смены правящего режима посредством прямой военной кампании либо через оказание помощи оппозиционным группам, в том числе при задействовании их в качестве прокси-акторов [6].
-
2. Оборонительная интервенция . Такое вмешательство обычно имеет место со стороны государства, расположенного по соседству с охваченной гражданским конфликтом страной, и может быть нацелено, во-первых, на предотвращение кросс-граничных перемещений вооруженных групп (например, считающихся террористическими) и потоков беженцев из государства-объекта [7], во-вторых, на пресечение нарушений границы со стороны сил безопасности государства-объекта, преследующих оппозиционные отряды в пограничных районах [8].
-
3. Охранительная интервенция . Данный сценарий может базироваться как на аффективных мотивах, так и на инструментальных. Традиционно в научной литературе, посвященной динамике гражданских войн, охранительная интервенция интерпретировалась в качестве попытки оказания помощи родственной этнической группе, находящейся под угрозой в условиях внутригосударственного конфликта в стране-объекте [9]. Подобная этническая солидарность особенно акцентуируется в ситуации так называемого «этнического альянса», когда группа, составляющая большинство населения в государстве - субъекте интервенции, одновременно является непривилегированным меньшинством в государстве-объекте и ее участие в гражданской войне воспринимается как борьба за выживание против репрессивного режима [10], что провоцирует вмешательство, как правило, на стороне оппозиции [11].
-
4. Ирредентистская интервенция . Такое вмешательство имеет место, когда в гражданской войне в государстве-объекте задействованы сепаратистские цели, а лидеры оппозиционной группы апеллируют к элите родственной этнонациональной группы, находящейся у власти в государстве-субъекте, с целью вынудить последнюю (или по ее инициативе) осуществить военное вмешательство и добиться инкорпорации спорной территории в свой состав [13].
Однако охранительная интервенция может быть вызвана и инструментальными мотивами, связанными, например, с заинтересованностью внешнего актора (субъекта интервенции) в сохранении у власти в государстве-объекте правящего режима и, как следствие, с готовностью вмешаться в ход гражданской войны для предотвращения его падения [12]. При этом аффективные и инструментальные мотивации в данном сценарии не являются взаимоисключающими и вполне могут сочетаться в определенных ситуациях, еще больше повышая вероятность интервенции.
Кроме того, согласно результатам некоторых исследований, принятие решения о вмешательстве во внутригосударственный конфликт со стороны государства-субъекта во многом определяется сочетанием таких его характеристик, как институциональная конфигурация и этнический состав. При этом из всех возможных комбинаций этническое многообразие вкупе с жесткими институциональными ограничениями на выработку государственной политики оказывает наибольший сдерживающий эффект на принятие решения о вмешательстве во внутренние конфликты других государств [14]. Дальнейшее изучение взаимосвязи этнического состава государства-субъекта и вероятности интервенции показало, что этнически гетерогенные государства с доминантной этнической группой более склонны к вмешательству во внутренние этнические конфликты в других странах, чем этнически гомогенные или этнически гетерогенные государства без доминантной группы [15].
Если интервенция все-таки происходит, она чаще всего приводит к увеличению как продолжительности гражданской войны [16], так и ее интенсивности [17], а также вероятности возобновления в будущем [18]. Результаты исследования Б. Джоунса показывают, что выбор стратегии и времени военного вмешательства в развитие гражданской войны имеет фундаментальное значение для ее исхода с точки зрения того, становится ли она затяжной или нет и заканчивается ли она победой правительства либо оппозиции или же мирным соглашением [19].
Недавние исследования также дают основания полагать, что традиционная дифференциация между нейтральной медиацией как стратегией третьей стороны, направленной на управление конфликтом, с одной стороны и предвзятым вмешательством для поддержки одного из участников конфликта с другой стороны не вполне корректно отражает дилемму выбора для таких внешних акторов и нуждается в более интегральном понимании. В частности, как демонстрируют Р. Корбетта и М. Мейлин, внешние акторы, имеющие существенный интерес в протекающем гражданском конфликте и располагающие соответствующими ресурсами, более склонны задействовать двойственные стратегии вмешательства, включающие в себя как предвзятые принудительные методы, так и непредвзятые непринудительные [20].
О необходимости обновления концептуального понимания феномена интернационализации конфликтов . При всей значимости проанализированной научной базы представляется, что ограничение концептуальной репрезентации феномена интернационализации внутренних конфликтов лишь изучением мотиваций, возможностей, стратегий, динамики и последствий вмешательства внешних государственных акторов редуцирует наше понимание международных аспектов внутригосударственного организованного насилия. Отчасти данная проблема объясняется семантическими особенностями использования категории « интервенция » ( intervention ), которой и ограничиваются проявления интернационализации, включаемые западными авторами в операциона-лизацию рассматриваемого феномена. При этом в такую операционализацию обычно не включаются многочисленные проявления, которые можно было бы отнести к категории « вмешательство » ( interference ), в том числе разные непрямые и не всегда кинетически фиксируемые влияния. Это диссонирует с подходами некоторых российских авторов, например С.М. Маркедонова, прослеживающего связь между «размораживанием» конфликтов на постсоветском пространстве и вмешательством внешних акторов, что привело к трансформации всей евразийской системы безопасности в 2000-е гг. [21]. Кроме того, подобные редуцированные концептуальные рамки оставляют за скобками интегративного понимания не только важные международные проявления внутригосударственных конфликтов, но также транснациональные и кросс-граничные.
Первым аспектом , подлежащим инкорпорированию в научное представление об интернационализации конфликта, является его пространственное (географическое) разрастание , которое может как быть связано с вмешательством внешних акторов, так и являться самодостаточным измерением. Статистическая значимость различных проявлений пространственной эскалации внутригосударственных конфликтов (кросс-граничные перемещения беженцев, оружия и наемников, спорадические кросс-граничные перетекания насилия, разрушение пограничной инфраструктуры и др.) в качестве факторов, опосредующих внешнее вмешательство, подтверждена многочисленными исследованиями.
В частности, подобные дестабилизирующие для соседних государств последствия могут вызвать эффект «заражения» (т. е. повысить риск зарождения собственного внутреннего конфликта) [22], что в свою очередь воспринимается ими как угроза собственным интересам и повышает вероятность вооруженной интервенции в государство-источник для обуздания там гражданского насилия [23]. При этом Дж.Д. Катман утверждает, что в такой ситуации решение соседнего государства о вмешательстве в гражданскую войну в государстве-источнике связано не только с интересами в зоне данного конкретного конфликта, но и с более широкими региональными интересами, которым может угрожать его пространственное расползание [24].
Кроме того, согласно результатам исследований, полученным Б. Атцили, международная норма нерушимости государственных границ, увековечивающая состояние слабости/несостоя-тельности отдельных государств, может способствовать перерастанию внутреннего конфликта в международный. В частности, слабое государство неспособно расселить и интегрировать входящие потоки беженцев из зоны вооруженного конфликта в соседней стране, а следовательно, предотвратить инфильтрацию и нападения со стороны военизированных групп, составленных из таких беженцев, против государства-источника, вынуждая власти последнего прибегнуть к ответным силовым действиям [25, p. 152].
Хотя внешнее вмешательство во внутренний конфликт, мотивированное риском его диффузии, обычно направлено на предотвращение кросс-граничного перетекания насилия и его последствий, оно может быть не только следствием, но и причиной пространственной эскалации. Так, результаты исследований Д. Пексена и М.О. Лоунсбери демонстрируют, что интервенции в поддержку оппозиции повышают риск «заражения» соседних государств, в то время как интервенции на стороне официальных властей, наоборот, снижают этот риск в региональном масштабе [26].
Вторым аспектом , изучение и фиксация которого важны для понимания природы интернационализации конфликтов, является ее международно-системное измерение . Разрастание внутригосударственного насилия может затрагивать интересы не только соседних территорий, но и системно значимых акторов как в региональном, так и в глобальном масштабе, изменять распределение мощи и влияния на международной арене, встраиваться в устоявшиеся диады стратегического соперничества между отдельными державами, вызывать повышенный интерес и внимание со стороны международного сообщества и – как следствие всего перечисленного – воздействовать на вероятность внешней интервенции.
Эта смычка между системной эскалацией внутригосударственного конфликта и возможностью внешнего вмешательства аналитически может быть упорядочена посредством имеющегося концептуального инструментария, разработанного в рамках различных теорий прокси-конфликтов (прокси-войн). Типичная структура последнего может быть представлена как результат непрямой интервенции со стороны минимум двух внешних сил (государств), которые одновременно с этим находятся в состоянии стратегического соперничества или конфронтации друг с другом, при том что они оказывают поддержку противоположным участникам внутреннего конфликта. Такая структура стала обычной в период холодной войны в силу понимания двумя сверхдержавами пагубности прямого взаимного столкновения. Неслучайно, согласно результатам исследования М.Дж. Финдли и Т.К. Тео, когда одно из государств в диаде стратегического соперничества уже вмешалось в ход какой-либо гражданской войны на стороне официального правительства, вероятность вмешательства другого государства диады на стороне оппозиции повышается в 11 раз. Когда изначальное вмешательство одной стороны стратегической диады происходит в поддержку оппозиции, вероятность ответного вмешательства другой ее стороны в поддержку официальных властей возрастает в 4 раза [27].
В большинстве случаев существующая стратегическая диада поглощает зарождающийся внутригосударственный конфликт, в результате чего последний начинает встраиваться в системное противостояние более высокого уровня (например, войны во Вьетнаме и Афганистане в эпоху холодной войны, война в Ираке 2003–2011 гг., ставшая ареной противостояния между США и Ираном, и др.). В других ситуациях стратегическое соперничество только формируется (или обостряется) и начинает проецироваться на затяжные внутригосударственные конфликты, меняя их динамику (в частности, влияние современной системной эскалации между Россией и США на некоторые хронические региональные конфликты).
Причем прокси-структура может быть не только замкнута на внутренний конфликт в третьем государстве, но и представлять собой своеобразное зеркальное кросс-вмешательство, когда обе стороны стратегической конфликтной диады оказывают прямую или непрямую поддержку внутренним оппозиционным силам (в том числе вооруженным повстанцам) друг друга (примером может служить использование некоторыми ближневосточными правительствами курдского меньшинства в соседних странах для ослабления стратегических противников при одновременной борьбе с проявлениями курдского национализма в пределах собственных границ).
Такие непрямые попытки взаимной дестабилизации позволяют избежать более рискованной альтернативы, связанной с прямой военной конфронтацией [28]. В этом смысле Э. Мамфорд, внесший большой вклад в концептуальное осмысление феномена прокси-войн, делает акцент на различении прямого вмешательства, мотивированного готовностью нести бремя помощи на основе обязательств военного союза, и непрямого прокси-вмешательства, обусловленного стремлением, наоборот, избежать издержек прямого участия в конфликте [29, p. 16].
Однако такая структура может быть и асимметричной (однонаправленной), если возможности оказания помощи вооруженной оппозиции соперника есть лишь у одной из сторон стратегической диады (например, в условиях отсутствия мобилизованной вооруженной оппозиции у другой стороны). В обоих случаях глубоко интернационализированный внутригосударственный конфликт замещает собой традиционную войну между национальными государствами в качестве более распространенной формы организованного насилия в международной среде.
Заключение: перспективы применения обновленной концептуализации в дальнейших исследованиях . Таким образом, устоявшееся в науке представление об интернационализации внутригосударственных вооруженных конфликтов как о вмешательстве внешних акторов нуждается в дополнении и уточнении. Изучение мотивации и возможностей для интервенции внешних сил во внутренний конфликт, а также ее различных форм и последствий продвинулось достаточно далеко и позволяет описывать типовые сценарии подобной интервенции, а также факторы, определяющие ее вариативность. Однако вмешательство внешних акторов тесно связано с рядом других международных, транснациональных и кросс-граничных проявлений внутригосударственного насилия, исследование которых необходимо для понимания того, как и почему внутригосударственный конфликт приобретает международное измерение.
В связи с этим концептуализация феномена интернационализированного внутригосударственного конфликта должна быть дополнена как минимум двумя аспектами. Во-первых, пространственное расползание организованного насилия и его последствий (кросс-граничные перетекания военных действий, потоки оружия, наемников и беженцев) не только делает внешнюю интервенцию более вероятной, но и само по себе способно дестабилизировать соседние государства. Во-вторых, системная эскалация внутреннего конфликта может оказывать влияние на международные процессы и структуры в рамках региональной или даже глобальной системы и без прямой вооруженной интервенции в конфликт внешних акторов, хотя ее взаимосвязь с вероятностью такой интервенции посредством феномена прокси-конфликта также эмпирически подтверждена.
Инкорпорация данных измерений (пространственного и системного) в концептуальные рамки научного понимания интернационализации конфликтов не только более корректно отражает природу этого явления, но и имеет огромное значение для последующих работ по данной проблематике. В частности, она требует новой операционализации категории интернационализированного конфликта в количественных исследованиях: во-первых, за счет включения в нее эмпирически фиксируемых пространственных и системных проявлений, во-вторых, за счет дезагрегации между ними и вмешательства внешних акторов при кодировании зависимых переменных, описывающих классификацию вооруженных конфликтов на внутренние, внутренние интернационализированные и международные.
Практическое приложение предлагаемого подхода может привести к реоперационализа-ции и обновлению кодирования тех классификаций вооруженных конфликтов, которые основаны на базах Уппсальской программы данных по конфликтам [30]. В частности, ряд современных вооруженных конфликтов, классифицируемых в рамках переменной « тип конфликта » ( type of conflict ) как внутригосударственные (internal / тип 3), были бы перекодированы в категорию интернационализированных (internationalized internal / тип 4) в силу имеющих место проявлений непрямого вмешательства, пространственной эскалации или международных системных влияний. В качестве примеров можно привести следующие конфликты:
-
– между правительством Государства Израиль и движениями ФАТХ, ХАМАС, «Исламский джихад» (в силу значимых системных проявлений в масштабах всего мусульманского мира, а также непрямого участия Катара и Ирана);
-
– между правительствами Египта, Ливана, Туниса, Филиппин и группировками, аффилированными с так называемым «Исламским государством», запрещенным в РФ, в 2015–2017 гг. (в силу международной помощи соответствующим правительствам по линии военных, спецслужб и сил правопорядка);
-
– между правительством Мали и коалицией туарегских и арабских племен в 2012–2014 гг. (из-за значительных трансграничных потоков оружия и наемников);
-
– между правительством Турции и Курдской рабочей партией в период после 2011 г. (в силу тесного переплетения с сирийским конфликтом из-за кросс-граничных связей между курдскими общинами севера Сирии и юго-востока Турции).
В то же время дезагрегация данной классификации для тех конфликтов, которые уже отнесены или должны быть отнесены к внутренним интернационализированным (тип 4), позволила бы дифференцировать различные аспекты данного явления в следующих глубоко интернационализированных конфликтах:
-
– сирийский ( международный аспект – прямая интервенция РФ, США и Турции, непрямая интервенция Ирана; пространственный аспект – потоки беженцев в Турцию, Ливан, Иорданию и страны Европы, входящие и исходящие потоки оружия и боевиков из других стран региона Северной Африки и Ближнего Востока и обратно; системный аспект – «проксификация» на региональном и глобальном уровнях);
-
– ливийский ( международный аспект – прямая интервенция НАТО в 2011 г., непрямое вмешательство Египта, ОАЭ, Катара и других акторов после 2011 г.; пространственный аспект – входящие и исходящие потоки оружия и наемников из стран Сахеля, Северной Африки и Ближнего Востока и в эти страны, взаимосвязь с конфликтами в Мали, Судане, северном Нигере и северном Чаде; системный аспект – «проксификация» по линии стратегического соперничества между Катаром и ОАЭ, дестабилизирующие системные последствия превращения ливийской территории в хаб средиземноморских миграционных потоков).
Результатом такой реоперационализации (дифференцированного кодирования отдельных аспектов явления вместо одной агрегированной переменной) могут стать изменение представления о полученных ранее статистических взаимосвязях между вероятностью интернационализации внутригосударственного конфликта и факторами социально-политической реальности (социально-экономическим благосостоянием и состоятельностью государства, его политическим режимом и институциональным дизайном, этическим составом, транснациональными идентич-ностными связями и т. д.), их уточнение и существенное дополнение.
Ссылки и примечания:
Список литературы К проблеме концептуализации феномена интернационализированного внутригосударственного конфликта: о недостаточности изучения роли внешних государственных акторов
- UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook [Электронный ресурс]: version 18.1 // Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 2018. URL: http://ucdp.uu.se/downloads/ucdpprio/ucdp-prio-acd-181.pdf (дата обращения: 28.12.2018)
- Gleditsch K.S., Salehyan I. Civil War and Interstate Dispute // Resources, Governance and Civil Conflict / ed. by M. Öberg, K. Strom. L.; N. Y., 2007. P. 58-76.
- Gleditsch K.S., Salehyan I., Schultz K. Fighting at Home, Fighting Abroad: How Civil Wars Lead to International Disputes // Journal of Conflict Resolution. 2008. Vol. 52, no. 4. P. 479-506. DOI: 10.1177/0022002707313305
- Regan P. Interventions into Civil Wars: A Retrospective Survey with Prospective Ideas // Civil Wars. 2010. Vol. 12, no. 4. P. 456-476. DOI: 10.1080/13698249.2010.534632
- Brown M.E. The Causes and Regional Dimensions of Internal Conflict // The International Dimensions of Internal Conflict / ed. by M.E. Brown. Cambridge, Mass., 1996. P. 571-601.
- Findley M., Teo T.K. Rethinking Third-Party Interventions into Civil Wars: An Actor-Centric Approach // Journal of Politics. 2006. Vol. 68, no. 4. P. 828-837. x.
- DOI: 10.1111/j.1468-2508.2006.00473
- Maoz Z., San-Akca B. Rivalry and State Support of Non-State Armed Groups (NAGs), 1946-2001 // International Studies Quarterly. 2012. Vol. 56, no. 4. P. 720-734. x.
- DOI: 10.1111/j.1468-2478.2012.00759
- Cooper R., Berdal M. Outside Intervention in Ethnic Conflicts // Survival. 1993. Vol. 35, no. 1. P. 118-142.
- DOI: 10.1080/00396339308442677
- Carment D., James P. Explaining Third-Party Intervention in Ethnic Conflict: Theory and Evidence // Nations & Nationalism. 2000. Vol. 6, no. 2. P. 173-202. x.
- DOI: 10.1111/j.1354-5078.2000.00173
- Moore W.H., Davis D.R. Transnational Ethnic Ties and Foreign Policy // The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation / ed. by D.A. Lake, D.S. Rothchild. Princeton, NJ, 1998. P. 89-103.
- Saideman S.M. The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, and International Conflict. N. Y., 2001.
- DOI: 10.7312/said12228
- Davis D.R., Moore W.H. Ethnicity Matters: Transnational Ethnic Alliances and Foreign Policy Behavior // International Studies Quarterly. 1997. Vol. 41, no. 1. P. 171-184.
- DOI: 10.1111/0020-8833.00037
- Woodwell D. Unwelcome Neighbors: Shared Ethnicity and International Conflict During the Cold War // International Studies Quarterly. 2004. Vol. 48, no. 1. P. 197-223. x.
- DOI: 10.1111/j.0020-8833.2004.00297
- Quirk P.W. Great Powers, Weak States, and Insurgency: Explaining Internal Threat Alliances. N. Y., 2017.
- DOI: 10.1007/978-3-319-47419-9
- Van Evera S. Nationalism and War // Nationalism and Ethnic Conflict / ed. by M.E. Brown. Cambridge, Mass., 1997. P. 36-60.
- Carment D., James P., Taydas Z. The Internationalization of Ethnic Conflict: State, Society, and Synthesis // International Studies Review. 2009. Vol. 11, no. 1. P. 63-86. x.
- DOI: 10.1111/j.1468-2486.2008.01825
- Huibregtse A. External Intervention in Ethnic Conflict // International Interactions. 2010. Vol. 36, no. 3. P. 265-293.
- DOI: 10.1080/03050629.2010.502447
- Akcinaroglu S., Radziszewski E. Expectations, Rivalries, and Civil War Duration // International Interactions. 2005. Vol. 31, no. 4. P. 349-374.
- DOI: 10.1080/03050620500303449
- Cunningham D.E. Blocking Resolution: How External States Can Prolong Civil Wars // Journal of Peace Research. 2010. Vol. 47, no. 2. P. 115-127.
- DOI: 10.1177/0022343309353488
- Regan P. Third-Party Interventions and the Duration of Intrastate Conflicts // Journal of Conflict Resolution. 2002. Vol. 46, no. 1. P. 55-73.
- DOI: 10.1177/0022002702046001004
- Lacina B. Explaining the Severity of Civil Wars // The Journal of Conflict Resolution. 2006. Vol. 50, no. 2. P. 276-289.
- DOI: 10.1177/0022002705284828
- Karlen N. The Legacy of Foreign Patrons: External State Support and Conflict Recurrence // Journal of Peace Research. 2017. Vol. 54, no. 4. P. 499-512.
- DOI: 10.1177/0022343317700465
- Jones B. Altering Capabilities or Imposing Costs? Intervention Strategy and Civil War Outcomes // International Studies Quarterly. 2017. Vol. 61, no. 1. P. 52-63.
- DOI: 10.1093/isq/sqw052
- Corbetta R., Melin M. Exploring the Threshold between Conflict Management and Joining in Biased Interventions // Journal of Conflict Resolution. 2017. July 27.
- DOI: 10.1177/0022002717720754
- Маркедонов С.М. Региональные конфликты: перезагрузка // Россия в глобальной политике. 2008. № 5. С. 92-106.
- Голубев Д.С. Диффузия внутригосударственных вооруженных конфликтов посредством модели эпидемологического заражения Кермака - Маккендрика: оправдана ли концептуальная аналогия? // Теории и проблемы политических исследований. 2016. Т. 6, № 6А. С. 7-17.
- Kathman J.D. Civil War Contagion and Neighboring Interventions // International Studies Quarterly. 2010. Vol. 54, no. 4. P. 989-1012. x.
- DOI: 10.1111/j.1468-2478.2010.00623
- Lemke D., Regan P.M. Interventions as Influence // The Scourge of War: New Extensions on an Old Problem / ed. by P.F. Diehl, A. Arbor. Michigan, 2004. P. 145-168.
- Kathman J.D. Civil War Diffusion and Regional Motivations for Intervention // Journal of Conflict Resolution. 2011. Vol. 55, no. 6. P. 847-876.
- DOI: 10.1177/0022002711408009
- Atzili B. When Good Fences Make Bad Neighbors: Fixed Borders, State Weakness, and International Conflict // International Security. 2006-2007. Vol. 31, no. 3. P. 139-173.
- DOI: 10.1162/isec.2007.31.3.139
- Peksen D., Lounsbery M.O. Beyond the Target State: Foreign Military Intervention and Neighboring State Stability // International Interactions. 2012. Vol. 38, no. 3. P. 348-374.
- DOI: 10.1080/03050629.2012.676516
- Salehyan I. The Delegation of War to Rebel Organizations // Journal of Conflict Resolution. 2010. Vol. 54, no. 3. P. 493-515.
- DOI: 10.1177/0022002709357890
- Mumford A. Proxy Warfare. Malden, Mass., 2013. 180 p.
- UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset [Электронный ресурс]: version 18.1 // Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 2018. URL: http://ucdp.uu.se/downloads/#d3 (дата обращения: 28.12.2018).