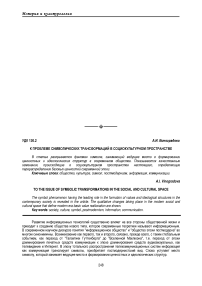К проблеме символических трансформаций в социокультурном пространстве
Автор: Виноградова А.И.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: История и культурология
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается феномен символа, занимающий ведущее место в формировании ценностных и идеологических структур в современном обществе. Показываются качественные изменения, происходящие в социокультурном пространстве настоящего, определяющие перераспределение базовых ценностей современной эпохи.
Общество, культура, символ, постмодернизм, информация, коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/14083204
IDR: 14083204 | УДК: 130.2
Текст научной статьи К проблеме символических трансформаций в социокультурном пространстве
Развитие информационных технологий существенно влияет на все стороны общественной жизни и приводит к созданию общества нового типа, которое современные теоретики называют информационным. В современном научном дискурсе понятия "информационное общество" и "общество эпохи постмодерна" во многом синонимичны. Возникновение как первого, так и второго, связано, прежде всего, с таким глобальным событием, как переход от "Галактики Гуттенберга" до "Вселенной Маклюэна", т.е. переход от эпохи доминирования печатных средств коммуникации к эпохе доминирования средств аудиовизуальных, как телевидение и Интернет. В эпоху тотального распространения телекоммуникационных систем информация как коммуникация транслирует символы, приобретает постмодернистский вид. Слово уступает место символу, который занимает ведущее место в формировании ценностных и идеологических структур.
В рамках историко-философского процесса и научного познания в целом феномен символа рассматривался в различных аспектах и направлениях: формально-логических, эстетических, эвристических и т.д.
Общая характеристика символа и его место и роль в культурном аспекте социального пространства является предметом анализа многих отечественных и зарубежных исследований, среди которых работы А. Лосева [2], Н. Рубцова [3], С. Лангер [4].
В аспекте проблемы данной статьи методологической основой выступают исследования философов-постмодернистов Ж. Бодрийяра [5], Ж. Лиотара [6], Дж. Ваттимо [7], В. Вельш [8] и т.д. Поскольку объектом исследования выступают трансформации символического в культуре постмодерна, то для данного исследования представляют интерес работы, связанные с теми или иными аспектами устройства современного социального мира и те изменения, которые несет общество, приобретая характер "постиндустриального" или "информационного", а именно взгляды Э. Тоффлера [9], М. Кастельса [10], Ф. Уэбстера [11], Д.В. Иванова [1].
Не теряют своей актуальности системная работа К. Юнга [12] о культурно-феноменологических и исторических архетипах символизации феноменологии индивидов и социумов и исследования К. Леви-Стросса [13] по изучению качества символа как инструмента передачи и хранения социального опыта.
Особое звучание в эпоху кибернетического моделирования массового сознания имеют исследования С. Кара-Мурзы [14], О.А. Кармадонова [15], В.В. Феррони [16], авторы которых акцентируют внимание на манипулятивной функции символического как в институциональном, так и в социоэпистемологическом измерениях социальной жизни.
Вместе с тем проблема символических трансформаций общественного сознания в эпоху постмодерна требует новых аспектов исследования символа под влиянием постиндустриальных тенденций общественного развития, связанных с процессами глобализации и информации.
Усиление постиндустриальных тенденций, связанных с процессами информатизации и глобализации, приводят не только к количественному увеличению информации и все больших возможностей пользования ею, а и к качественным изменениям, которые постепенно происходят в социокультурном пространстве настоящего, к перераспределению базовых ценностей современной эпохи. В XXI веке информация превратилась в глобальный ресурс человечества, вошедшего в новую эпоху развития цивилизации, – освоение информационного пространства. Д.В. Иванов определяет информацию как коммуникацию, операцию трансляции символов, побуждающих к действию [1, с. 361]. Только как коммуникация, а не как знание или предмет, информация способна вызывать новые операции. Именно поэтому главным феноменом компьютерной революции становится Интернет, ведь в его глобальной сети гораздо увеличиваются возможности осуществления коммуникаций.
Компьютеризация повседневной жизни вводит в обиход виртуальную реальность в качестве компьютерных симуляций реальных вещей и поступков. Глубина проникновения виртуальности в социальную и индивидуальную жизнь позволяет говорить о "виртуализации" общества. Сегодня с помощью Интернета можно покупать интеллектуальный и материальный товар в виртуальных магазинах; зарабатывать деньги, принимая и размещая рекламу на виртуальных билбордах, выигрывать в виртуальном казино, играть на виртуальных биржах, участвовать в виртуальных симпозиумах, конференциях, становиться членом виртуальных клубов, сообществ; можно даже любить и создавать семьи. Эти и другие виртуальные аналоги реальных взаимодействий приводят к замещению реального исполнения социальных ролей симуляцией, созданию образа "реальных атрибутов институциональности "[1, с. 366]. Таким образом, виртуальная реальность предстает не как совокупность вербальных и невербальных текстов, а как специфическая форма дискурса постмодернистского мира, в котором власть, знания, коммуникация и информация слились в единый клубок симуляций. Человек эпохи модерна, которая находит себя в социальной реальности, воспринимает ее всерьез как естественную аутентичную данность, в которой проходит жизнь. Человек эпохи постмодерна погружен в виртуальную реальность, "живет" в ней, сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее.
Термин "постмодернизм" первоначально использовался для фиксации инновационных тенденций в архитектуре и искусстве (прежде всего, вербальные его формы), а после работы Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании "(1979) утвердился в статусе философской категории, которая фиксирует ментальную специфику современной эпохи в целом и ассоциируется с критикой универсального знания, фундаментализма. Наиболее существенными характеристиками постмодернизма как культурного течения, а в дальнейшем постмодерна как мировоззрения информационного общества, является стирание всевозможных границ между искусством и повседневной жизнью, элитной и массовой культурой, фрагментарность, интертекстуальность, эклектика и смешение стилей. Постмодерн отличает многозначность, сомнение, ирония, коллажность, трансформация реальности в образ, рефлексия, цитирование, случайность и амбивалентность.
Постмодернистская философия констатирует "процесс распада мира вещей", который порождает и "космический хаос", и текстуальные феномены "хаоса значений", "хаоса цитат", "хаоса означаемых" как вторичные по отношению к нему [17, с. 492]. Отсюда проблема потери реальности, которая формулируется как "гибель реального" или "сфера симулякров". "Реальность не просто отчуждается, опредмечивается или теряет смысл, она исчезает, а вместе с ней исчезает и общий субстрат человеческого опыта, заменяясь множеством знаков, – свободных и относительных картин мира. Каждая раса, культура, пол, возраст, местность, индивид создает свою "реальность" – именно это слово в современных гуманитарных науках редко используется без кавычек. Отчуждение реальности от человека и исчезновение самой реальности – лестницы одного поступательного процесса, в котором «сумма информации, созданная человечеством, становится все менее доступной отдельному индивиду»[18].
Феномены истины, адекватности, реальности больше не воспринимаются в качестве онтологически базовых, а воспринимаются в качестве символического порядка. В постмодернистском семантическом пространстве феномен реальности приобретает характеристики гиперреальности, в рамках которой оригинал и копия (подделка) существуют в одном культурном контексте. Согласно Бодрийяра, закончилась сама реальность, уступив место гиперреальности симулякров – псевдоречей, что "замещают" агонизирующую реальность «постреальностью путем симуляции, выдает отсутствие за присутствие, стирает разницу между реальным и представлений» [19, с. 60].
Постмодерн ориентирован не на разработку, а на конструкцию как свободное и подвижное соединение разнородных элементов в единое целое, причем в принципиально произвольном порядке, исключая инструкцию как таковую, – символом культуры постмодерна становится коллаж, который приобретает статус универсального средства организации культурного пространства.
Коллажность проявляется почти во всех феноменах культуры постмодерна: коллажность "свободного языкового стиля", который предполагает сочетание изысканной литературности и арго, стилевой эклектизм архитектурных практик, принцип комбинаторности в моде, культивируемый способ социализации и т.д. По словам М. Можейко [17, с. 492], в современной версии постмодернизма речь идет уже об атрибутивной коллажности любых феноменов культуры. Символом эпохи постмодерна становится фотография женщины в парандже и с сигаретой Marlboro (С. Сардар).
Заданный постмодерном культурный полицентризм ведет к увеличению как индивидуальной, так и коллективной свободы, к "разрушению традиций и появлению возможностей выбора среди верований, ценностей и жизненных стилей" [17, с. 513]. С одной стороны, не признавая канонов и авторитетов, человек начинает искать пути самореализации и находит их, например, в Интернете, размещая на своих web-страницах семейные фотоальбомы, проводя персональные художественные и фотовыставки (даже с элементами анимации), организуя музейные экспозиции, кинопросмотры, интерактивные спектакли. Интеграция живописи, музыки, литературы, архитектуры, науки может привести к созданию новых форм искусства. С другой стороны, традиционная культура с характерной для нее социокультурной коммуникацией, для которой присуще основанное на традиционных формах социальной практики и жесткой социально-ролевой иерархии стабильное общество. Лавина символов, образов, знаков обваливается на человека, вызывает процесс разрушения традиционной знаковой системы ценностей и потери собственной культурной идентичности, что приводит к характерной для культуры постмодерна в целом постмодернистской чувственности – установки на восприятие мира в качестве хаоса. Мир становится одновременно фактическим, хаотичным и разнородным, а человек чувствует себя сбитым с толку. В результате возникает чувство освобождения, ощущение "изменчивости, дезориентации и игры" [7, с. 59]. Впитывая социальное окружение, постмодернистский индивид ко всему открыт, воспринимает все на уровне легких и быстрых касаний, как цитату, как условность, за которой невозможно найти начало, источник, возникновения [18].
В эпоху постмодерна политические институты, которые ранее определяли способы постановки и решения проблем обладания властью, симулируются, вызывая виртуализацию институтов – выборов, государства, партий. Борьба за политическую власть сегодня – это не борьба партийных организаций или конкуренция программ действий. Это борьба образов – политических имиджей, которая происходит на символическом уровне. "Мы живем в эпоху политики образов и образов политики", – утверждает Д.В. Иванов [1, с. 405]. И действительно, имиджмейкеры, пресс-секретари, менеджеры, администраторы и т.д., занимаясь идеологическим обеспечением деятельности власти, создают политику и все чаще формируют общественное мнение в подготовке и реализации политических решений.
Задачей этой так называемой символьной элиты является создание и продуцирование востребованного в данный момент политического имиджа – образа власти, обеспечение ее рейтинга. Сегодня политика создается не на заседаниях партийных и правительственных заседаниях, не на политических митингах и межфракционных переговорах, а в телестудиях, PR-агентствах и концертных площадках (с участием "звезд", которые поддерживают ту или иную политическую партию во время предвыборной кампании). Партии, которые возникли как представители классовых, этнических, конфессиональных, региональных интересов, превращаются в "марки" [1, с. 404], эмблемы и рекламные слоганы, которые традиционно увеличивают электорат.
Власть растворяется в современных масс-медиа, телекоммуникациях и Интернете, становится невидимой и вместе с тем всепроникающей. Принцип монтажа, который используется средствами массовой информации, приводит к такой селекции и интерпретации реальных событий, что мир, который воспринимает пользователь, оказывается иллюзорным миром или симулякром. Средства массовой коммуникации фактически больше не отражают действительность, а сами создают образы, символы и симулякры, которые и определяют реальность нашей культуры, или, используя терминологию Бодрийяра, гиперреальность, в которой происходит симуляция коммуникаций, и которая становится более реальной, чем сама реальность.
Информационный бум, бесконечные возможности, доступность и упрощенность понятий и действий получает рядовой пользователь, что приводит к качественным изменениям в стиле мышления, в способе видения, оценке и понимании действительности. Предшествующий линейный способ восприятия мира, где понимание основано на логической последовательности, аргументации и обосновании, уступает место целостному охвату смысла того, что происходит, при этом даже мозаичное и нерегулярное поглощение информации (чтение, просмотр ТВ) стремительно присоединяют человека к реальным событиям [1, с. 466].
В информационном постмодернистском обществе технологические трансформации имеют существенное влияние на знания. Ж.-Ф. Лиотар в "Состоянии постмодерна" писал: "Устаревший принцип, по которому полученное знание неотделимо от формирования разума и даже от самой личности, стареет и будет выходить из потребления ... Знание создается и будет создаваться только для того, чтобы получить стоимость в новом продукте..." [6, с. 80].
По мнению исследователя, знания все чаще становятся товаром, а в информационной сфере все чаще срабатывают рыночные механизмы, которые становятся рычагом при определении степени востребованности и эффективности знания и информации, степени "перфомативности". Как следствие, снижается уровень тех видов знания, которые становятся невостребованными и неэффективными (философия, эстетика). Образование рассматривается не как отдельный период жизни (школа, университет), а как процесс, длящийся всю жизнь; множество истин приводит к потере авторитета и роли традиционных университетов в определении, что есть истина, меняется представление об образованности человека (кого считать более образованным: того, кто обладает большим объемом знаний, того, кто умеет быстро найти необходимую информацию и знает как ею воспользоваться).
Компьютерные симуляции природных, технологических и социальных процессов, увеличение роли воображения, фантазии, парадоксальности мышления, манипуляции моделями научного дискурса вместо поиска, создания надлежащего образа механически приводят к успеху, являются визитной картой научного социокультурного знания постсовременности.
Подводя итоги, следует отметить, что согласно исследованиям последних лет (Р. Гелдер, С. Форатон), постмодернистское состояние мышления сказывается сегодня в социологии, истории, этике, медицине, этнографии и других гуманитарных дисциплинах практически без исключения. В постмодернистском пространстве такие институциональные сферы, как культура, экономика, политика, наука, строятся на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков большим количеством символов, образов, симулякров. Наш символический универсум создается на основе масс-медиа, телевидения, рекламы, Интернета, и эта эксплуатация "чужеродных" образов становится причиной распада традиционной культуры, приводит к потере культурной идентичности.
Диспропорция между человеком, чьи возможности биологически ограничены, и человечеством, которое, благодаря Интернету, практически не ограничено в своей информационной экспансии, приводит к "постмодернистской чувствительности" якобы равнодушной по отношению ко всему, что происходит.
Вслед за философами-постмодернистами остается надеяться, что с ростом общей ответственности, увеличением взаимозависимости членов общества и улучшением их способности находить общий язык человечество станет более гуманным и толерантным.