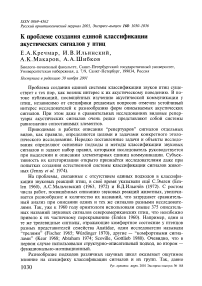К проблеме создания единой классификации акустических сигналов у птиц
Автор: Кречмар Е.А., Ильинский И.В., Макаров А.К., Шибков А.А.
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 168 т.10, 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140149332
IDR: 140149332
Текст статьи К проблеме создания единой классификации акустических сигналов у птиц
Проблема создания единой системы классификации звуков птиц существует с тех пор, как возник интерес к их акустическому поведению. В потоке публикаций, посвящённых изучению акустической коммуникации у птиц, независимо от специфики решаемых вопросов отмечен устойчивый интерес исследователей к разнообразию форм описываемых акустических сигналов. При этом даже в сравнительных исследованиях видовые репертуары акустических сигналов очень редко представляют собой системы равнозначно сопоставимых элементов.
Приводимые в работах описания “репертуаров” сигналов отдельных видов, как правило, определяются целями и задачами конкретного этологического исследования. Нередко поставленные задачи и объекты исследования определяют основные подходы и методы классификации звуковых сигналов и задают набор правил, которыми исследователь руководствуется при выделении и описании элементарных единиц коммуникации. Субъективность их категоризации открыто признаётся исследователями даже при попытках создания естественной системы классификации сигналов животных (Jenny et al. 1974).
На проблемы, связанные с отсутствием единых подходов в классификации звуковых реакций птиц, в своё время указывали ещё С.Эмлен (Еш-1еп I960), А.С.Мальчевский (1963, 1972) и В.Д.Ильичёв (1972). С ростом числа работ, посвящённых описанию звуковых реакций животных, увеличивается разнообразие и количество их названий, что затрудняет сравнительный анализ при описании одних и тех же сигналов разными исследователями. Так, уже к I960 году орнитологи использовали свыше 375 описательных названий звуковых сигналов североамериканских птиц, что неизбежно привело к их частичному перекрыванию (Emlen 1960). Например, одни и те же трелевидные сигналы, отражающие комфортное состояние у птенцов разных представителей семейства Anatidae, одни исследователи называли “трелями” (Fischer 1965; Wurdinger 1970), другие — “комфортными сигналами” (Кеаг 1968; Abraham 1974; Scoville, Gottlieb 1980). Очевидно, что в первом случае использовался структурно-описательный подход, во втором — функционально-мотивационный.
Разнообразие подходов различных научных школ оказывает ощутимое влияние на специфику классификации сигналов и их групп. Так, давно
Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 168
развивающаяся дискуссия о роли наследственной информации и соотношении её с приобретённым опытом дала ряду исследователей основание проводить первичное разделение звуковых сигналов на врождённые и приобретённые (Tinbergen 1951). В то же время, сторонники школы вероятностного эпигенеза, описывающие поведенческий репертуар животного как непрерывно развивающийся и изменяющийся во времени поток форм, указывают на некорректность и неправомочность этого подхода при категоризации сигналов, даже на примере таких классических “врождённых” форм сигналов у выводковых птиц, как сигналы тревоги и дискомфорта (Miller 1988). При таком подходе ключевой методологической проблемой становится процедурный вопрос об определении уровней дискретизации потока поведения, границ отдельных категорий сигналов и элементов, их составляющих (Панов 1976, 1978; Фридман 1996; Horn, Falls 1996).
Отсутствие единых принципов классификации сигналов птиц создаёт существенные затруднения при проведении сравнений разных видов как по акустическим репертуарам в целом, так и по их частям. Имеющиеся разногласия в правилах выделения отдельных категорий сигналов вызваны расхождениями в используемых подходах и понятийном аппарате. Хорошим примером этого служат исследования песенных репертуаров видов отряда Passeriformes. Даже достаточно строгий семантический подход к оценке песни как сложно структурированного сигнала может давать противоположные результаты. Так, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus никогда не повторяет отдельные элементы своей песенной последовательности в строгой очерёдности. Можно сказать, что она имеет бесконечно обширный песенный репертуар, если песню определять как набор повторяющихся строф, но если за отдельные песни, объединённые в безразмерный континуум, принимать отдельные повторяющиеся строфы, то её репертуар будет выглядеть гораздо скромнее (Catchpole, Slater 1995).
Комплексность и функциональная неоднозначность демонстративной песни воробьиных птиц всегда особо подчеркивались орнитологами как некий феномен, стоящий отдельно в ряду звуковых сигналов птиц. Исследователи никогда не отрицали коммуникативное значение этих особых, зачастую очень сложных и разнообразных сигналов.
Для выявления характеристик, на основании которых проводят видоспецифическую категоризацию песен (в частности, определение песенного репертуара особи и вида), разработано большое число методических приёмов. Особенно распространено предъявление песен активно поющим птицам. Узнавание песен птицами-получателями хорошо фиксируется изменением их ответа на проигрываемые образцы. Этот метод позволил выявить видоспецифичную категоризацию демонстративных песен через их распознавание птицами, например, относящимся к разным видам или подвидам вьюрковых или овсянковых (Slater, Catchpole 1990; Baker 1991). Классической работой такого рода является предъявление искусственно модифицированных песен самцам зарянки Erithacus rubecula, что позволило выделить видоспецифические признаки в составе демонстративной песни для этого вида (Bremond 1968). Видоспецифическое узнавание песни птицей хорошо проявляется либо на видовом уровне, либо на уровне очень близкого род- Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 168
ства (Slater, Catchpole 1990). Ответ самца на видоспецифичную песню обусловлен одной из её ведущих функций — соревновательной, или территориальной. Звуковые сигналы с подобными функциями не всегда можно найти в таксонах одинакового ранга (семейства, отряда).
Значимость акустических компонент поведения для филогенетических и систематических построений общепризнанна (Johnsgard 1961; Ильичев, Звонов 1976; Payne 1986; Miller 1996). Однако обширный опыт, накопленный этологами при изучении акустической коммуникации, остается в значительной части в стороне при анализе сравнительно-филогенетических аспектов поведения. Поэтому решение проблемы “сравнения сопоставимого” (Мальчевский 1972) является одной из центральных задач всех сравнительных исследований, и решить её можно только при разработке удобной в обращении единой системы классификации. Согласно Э.Майру (1971), классику биологической систематики, классификация должна “сочетать максимальное содержание информации с максимальной легкостью извлечения этой информации”.
Мы полагаем, что системная классификация сигналов должна строиться по принципам, сходным с принципами классификации живых организмов. Биологическая классификация, т.е. подразделение некого числа живых форм на группы, составляющие систему, согласно общим для каждой категории признакам, должна нести пояснительную и прогностическую нагрузку, а также сохранять возможность для совершенствования в ходе накопления дополнительных знаний (Майр 1971). Номинативный аспект классификации (системное использование применяющихся терминов и названий) должен определяться и регулироваться специальными уставными документами (такой подход применяется в систематике, см., например: Международный кодекс зоологической номенклатуры 2000).
Одним из практических аспектов создания единой классификации акустических сигналов животных является систематизация фонограмм в коллекциях. Большое число коллекций голосов животных (как коллективных, так и частных), требует наличия единой системы обозначения звуковых сигналов (Kroodsma et al. 1996). Вся работа по обмену материалами, поиску необходимых записей, проведению исследовательских работ на базе коллекций требует наличия общей классификации единиц хранения, без которой научное значение коллекций значительно снижается. В случае построения и ведения баз данных коллекций классификация сигналов решает ограниченную задачу: обеспечить размещение материалов и облегчить к ним доступ. При этом допускается известное упрощение классификации.
Попытки создания систем классификации акустических сигналов предпринимались неоднократно (Лукина 1957; Collias 1960; Smith 1969а; Мальчевский 1972; Симкин 1976; Tembrock 1977). Разнообразие существующих систем классификации вызвано тем, что исследователи по-разному соотносят в своих построениях отдельные подходы, часто акцентируя внимание на одном, доминирующем, который в дальнейшем a priori и определяет систему в целом.
Многочисленные частные описания репертуаров птиц не могут быть использованы как возможные модели единой классификации сигналов пт Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 168
вследствие своей естественной объективной ограниченности. Так, при описании видового репертуара исследователи намеренно сосредоточивают внимание на видоспецифических чертах, т.е. тех признаках, которые более выигрышны при проведении сопоставлений внутривидового или межвидового уровня. Более расширенные описания акустических репертуаров в сравнительных исследованиях, проведённых на близких видах птиц (на уровне рода, реже семейства), также мало пригодны для обобщений на более высоком систематическом уровне.
Значительную путаницу и разночтение при сравнении репертуаров животных близкородственных форм привносит использование многими исследователями звукоподражательного, описательно-фонетического подхода. Фонетические описания вокализаций, при которых фонемы человеческой речи сопоставляются со звучанием сигналов, страдают отсутствием единых правил и зачастую зависят от языковых и слуховых особенностей исследователей. В словаре С.И.Ожегова (1968) под гоготаньем гусей в общем случае подразумеваются “характерные звуки, похожие на “го-го-го”. Гоготание белолобого гуся Anser albifrons (дистантные контактные сигналы, служащие для узнавания данного вида на расстоянии) В.К.Рябицев (2001) передаёт как “аньг-аньг”, “га-йа-йа”, “га-га”, П.Йонсгард (Johnsgard 1975) — “leek-leek” или “leek-leek-leek” (многосложное гоготанье), Бергманн и Гелб (Bergmann, Helb 1982) приводят фонему “kiau-liau ” Л.Джонсон (Jonsson 1992) описывает эти звуки как “куи-куок”. Варианты для этих типов гогота также приводились как “klou-iu-u ” или “uliu-liu-liu ” (Кречмар 1998).
Характерное пение пеночки-теньковки Phylloscopus collybita даже определило видовое название птицы на русском, немецком (Zipzalp) и английском (chiffchaff) языках. Фонемная транскрипция её песни на русском языке выглядит как “тенъ-тинъ-тянъ-тюнь...тр...тр...тенъ-тинъ... ” (Беме и др. 1997) или “тень-тянь... тенъ-тянъ” (Симкин 1990), на английском — “chiff chiff chaffa chiff cheff cheff... ” (Bruun et al. 1987; Heinzel et al. 1995); на немецком — “yip zalp zalp zilp zilp zalp " (Bergmann, Helb 1982; Jonsson 1992).
Неоднократно высказывалась мысль, что в основе классификации акустической коммуникации птиц должен лежать функциональный подход (Мальчевский 1972, 1976; Tembrock 1977). Информационная значимость является одним из ключевых вопросов, затрагивающих методологические подходы и понятийный аппарат, используемые в оценке функционального значения сигналов. Все ли звуки, издаваемые животными, являются носителями информации, и имеет ли коммуникативный характер эта информация по отношению как к особи-отправителю, так и к особи-получателю? Например, так называемые сопутствующие (Мальчевский 1972), или инструментальные (Ильичёв 1972) звуки, издаваемые в процессе локомоции, питания и другой жизнедеятельности, для “восприимчивого” слушателя могут служить источником информации не только о типе активности, но и о физиологическом состоянии животного или характере и уровне его мотивации. Однако сопутствующие звуки не несут намеренно вложенного отправителем информационного значения, хотя и могут содержать важную для получателя информацию. Так, издаваемый при внезапном взлёте од- тус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 168 1033
ного голубя шум индуцирует подъём на крыло всей голубиной стаи, однако он необязательно мотивирован необходимостью коллективного взлёта. Информация, содержащаяся в шумах, издаваемых при движении хищника и жертвы во время охоты, имеют жизненно важное значение как для преследуемого, так и для преследователя. Сходное информационное значение могут иметь не только сопутствующие, но и голосовые сигналы. Крик внезапно пойманной птицы, вероятно, является лишь проявлением стресса и не имеет специфического содержания и адресной направленности.
Таким образом, по функциональному значению сигналы можно разделять на две большие группы: коммуникативные и некоммуникативные. Последние участвуют в акте сигнализации, т.е. процесса ненамеренной генерации информационных сообщений, при которой передача информации необязательна. Коммуникативные сигналы несут намеренно передаваемую по каналу связи и контролируемую отправителем информацию, приём которой обеспечивает манипуляцию поведением получателя.
Другим существенным затруднением при разработке классификации сигналов по функциональному признаку является их полифункциональность (Smith 1969а,б, 1997; Ильичёв 1972; Мальчевский 1972, 1976; Симкин 1974, 1983). Традиционным примером полифункционального звукового сигнала служит демонстративная песня воробьиных птиц. Один самец может с незначительными интервалами использовать одни и те же типы песни как для обозначения собственной территории, так и для привлечения особей противоположного пола. При перемене места и обстоятельств самец может переносить акцент с одного из вложенных в сигнал значений на другое (Smith 1977; Catchpole 1982).
Таким образом, создание единой универсальной системы классификации, на наш взгляд, должно основываться на комплексном подходе, учитывающем функциональное значение сигналов, их ситуативную изменчивость, информационную значимость, структурное, фонетическое и синтаксическое описание и другие возможные подходы, и сводится к решению следующих основных задач:
-
1) Разработка строго определённых единых представлений о системе акустической коммуникации животных, как основы унитарной системы классификации сигналов.
-
2) Определение элементарной единицы сигнализации (коммуникации) и основных критериев для её выделения.
-
3) Определение набора ведущих признаков, позволяющих при минимальных затратах производить выделение элементарной единицы сигнализации (коммуникации).
-
4) Определение набора процедур и правил, позволяющих классифицировать сигналы в соответствие с комплексным многомерным подходом.
-
5) Разработка и согласование свода терминов и номенклатуры классификации в соответствии с используемыми при категоризации сигналов процедурами и правилами.
Работа приводилась при финансовой поддержке грантом Министерства образования Российской Федерации Е00-6.0-161.