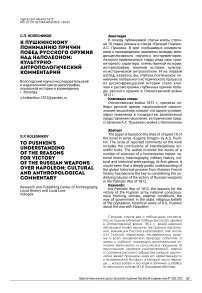К пушкинскому пониманию причин побед русского оружия над наполеоном: культурно-антропологический комментарий
Автор: Колесников С.П.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 1 (53), 2022 года.
Бесплатный доступ
В основу публикуемой статьи взяты строчки 10 главы романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В круг сообщаемых комментариев к произведению заложены выводы междисциплинарного научного инструментария. Автором привлекались труды ряда наук гуманитарного характера: отечественной истории, историографии, военной истории, культурно-исторической антропологии. И на первый взгляд, казалось бы, глубоко поэтическое понимание глобального исторического процесса из русско-французской истории стало ключом к рассмотрению глубинных причин победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г.
Отечественная война 1812 г, причины победы русской армии, национальное самосознание, мышление, климат, погодные условия, образ правления в государстве, религиозные представления населения, исторические представления а.с. пушкина о войне с наполеоном
Короткий адрес: https://sciup.org/149139721
IDR: 149139721 | УДК: 82.091:94(470)"1812"
Текст научной статьи К пушкинскому пониманию причин побед русского оружия над наполеоном: культурно-антропологический комментарий
S.P. KOLESNIKOV
TO PUSHKIN ' S
UNDERSTANDING
OF THE REASONS
FOR VICTORY
OF THE RUSSIAN WEAPONS OVER NAPOLEON: CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL
COMMENTARY
Research and Publishing Center of Archeography, Local History and Local Lore,
Vologda
The paper is based on the lines of chapter 10 of the novel in verse «Eugene Onegin» by A.S. Pushkin. The circle of reported comments on the work includes the conclusions of interdisciplinary scientific tools. The author involved the works of a number of sciences of a humanitarian nature: national history, historiography, military history, cultural and historical anthropology. At first glance, it would seem that a deeply poetic understanding of the global historical process from Russian-French history has become the key to considering the underlying causes of the victory of Russian weapons in the Patriotic War of 1812.
Сегодня, спустя два с небольшим столетия, после годины юбилеев победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г., волей-неволей пытаешься понять причины тех грозных настроений, вовлекших Россию в круговорот, как писал Л.Н. Толстой, «противных человеческому разуму и всей человеческой природе событий», а затем и событий, повлекших окончательное изгнание Наполеона из российских пределов. И пристальное изучение умонастроений, чаяний и сознания русского общества каждое десятилетие являет примеры мерила нравственности в человеческой Истории, в которой «есть периоды…, когда добро и зло ходят в обнимку, шатаясь от жестокого хмеля» (Ю.В. Бондарев «Война»).
Эпоха наполеоновского нашествия со всеми ее падениями и взлетами, поражениями и победами явилась в русской истории чередой событий, когда на суд Истории попадали в основном люди одного поколения. О людях, живших в начале XIX в., английский историк Д. Чандлер писал: «...столь ж справедливо можно утверждать, что Наполеон был жертвой поколения, стремившегося к войнам, и то, что он был “человеком крови”, ответственным за огромный пожар войны, пылавшей в Европе так много лет» [1, С. 43]. Прочитав и проанализировав «Евгения Онегина», В.Г. Белинский с исчерпывающей полнотой определил суть этого произведения – «энциклопедия русской жизни». Этот роман в стихах стал настоящим историческим источником, источником представлений о жизни русских людей первой четверти XIX в., где соседствовали подвиг и предательство, любовь и измена, доброе и злое, дурное и хорошее… И каждое поколение после прочтения все вновь и вновь искало ответы на вопрос: «Откуда есть пошло?…» (историки не придумали более емкой формулы целей и задач историописания). Вечные поиски Правды Истории!.. Историографическая традиция эпохи наполеоновского нашествия в этом отношении являет пример пристального отношения к грозным потрясениям начала александровского царствования. При всех раскладах теории и практики исторических исследований Историю как науку всегда вершили люди…
Восприятие событий, в круговорот которых вовлекалось общество, всегда во многом зависело от степени осведомленности, количества и качества поступавших известий о прошедших реалиях недавней жизни, а также от месторасположения происходящих событий. Исторические представления складывались под влиянием идеологических предпочтений людей, наделенных властью. Как не вспомнить хрестоматийное высказывание итальянского писателя Умберто Эко: «История пишется победителями». И развитие историографической традиции эпохи наполеоновского нашествия, ее изменчивость – красноречиво говорящее тому подтверждение… Иллюстрация этим утверждениям – исторические представления А.С. Пушкина, закрепленные в «Евгении Онегине», особенно в 10 главе, где в сжатой поэтической строфе автор изложил суть происходящих исторических процессов первых двух десятилетий XIX столетия.
Отечественной войне 1812 г. автор в «Евгении Онегине» уделил особое внимание. Представления поэта об этой эпохе складывались как на личных воспоминаниях, так и на изучении общественных настроений и взглядов поколения участников этой войны на события «грозы двенадцатого года». В 10 главе, как бы подводя итоги уходящей эпохе, он писал: «Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский бог?» . Далее читаем: «Но бог помог – стал ропот ниже, / И скоро силою вещей / Мы очутилися в Париже, / А русский царь главой царей» .
Поэт П.А. Вяземский о 10 главе «Евгения Онегина» 19 декабря 1830 г. в дневнике помечал: «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок и 9 главу Онегина. Ею и кончает; из 10-й предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника... У вдохновенного Никиты, У осторожного Ильи...».
Историк В.Н. Земцов, обращая в очередной раз внимание исследователей к пушкинским строчкам, писал: «...они сегодня кажутся столь же актуальными, как в первой половине XIX или в конце XX века. Историки вновь ищут, как подойти к проблеме убедительной акцентировки причин поражения нашествия “двунадесяти” европейских языков на Россию: роли и места в этом поражении “остервенения народа”, пожара Москвы, роли русской армии, Александра I, воздействия природных факторов, военнооперативных и политических просчетов Наполеона и т.д.» [2, с. 464].
О совокупности своеобразия русской литературы говорил А.С. Пушкин: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [3, с. 40].
Обратим внимание, что А.С. Пушкин в качестве слагаемых успеха в победе над Наполеоном выделяет настроения и психологический настрой русских людей во время войны 1812 года («остервенение народа», патриотизм и народная война), умело примененную «скифскую» тактику, автором которой был М.Б. Барклай де Толли (Пушкин к нему относился с почтением и благоговением, что видно из стихотворения «Полководец»), «зима» и «русский бог» – идеологически выверенную религиозную поддержку в политике Русской Православной церкви.
Среди перечисления причин победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г. обращает на себя внимание указание автора «Евгения Онегина» на какую-то особую важность природно-климатического фактора («зима», «генерал Мороз»). И это не случайно… Как уже отмечалось, А.С. Пушкин в работе с романом учитывал распространенные в обществе мнения о причинах победы русской армии. Исходным документом в формировании мифологемы о русском «генерале Морозе» явился 29-й бюллетень Великой армии, изданный под Молодечно 21 ноября (3 декабря) 1812 г., т.е. в событиях на р. Березине. Для русской читающей аудитории этот документ стал доступен после опубликования в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1813. – 14 января) и сокращенно – в «Историческом, статистическом и географическом журнале» (1812. – Ч. 4. Кн. 2 – 3). Из документа видно, как Наполеон объяснял причины своего поражения: «По 6-е число ноября погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом… Морозы, начавшиеся с 7-го числа, вдруг увеличились, и с 14 по 16 термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже точки замерза-ния1. Дороги покрылись гололедицею, и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами, а особливо взятые из Немецкой земли и Франции. В несколько дней погибло их более 30 тысяч… Армия, бывшая 6-го числа в самом лучшем состоянии, 14-го уже совсем переменилась; она лишилась конницы, артиллерии и обозов… Сие затруднение, сопряженное с наступившими вдруг морозами, привело нас в самое жалостное состояние» [4]. Высказанную в бюллетене идею Наполеон подтвердил в высту- плении на заседании Государственного совета в декабре 1812 г., когда вернулся в Париж: «Все шло хорошо, Москва была нашей; мы преодолели все препятствия, пожар в городе не оказал никакого влияния на наши войска; но зима погубила нас всех» [5, с. 191].
Этот тезис Наполеона быстро подхватили французские мемуаристы и даже историки. Их труды стали изобиловать климатической трактовкой победы русской армии в войне 1812 г.
Против утверждений бюллетеня Великой армии одним из первых в русском обществе выступил М.Ф. Орлов. Написав по приказу М.И. Кутузова «Размышления русского военного о 29-м бюллетене», будущий декабрист высмеял несостоятельную французскую лживую версию о причинах поражения французов в войне. В «Размышлениях…» подчеркивалось, что гибель наполеоновской армии началась намного раньше наступления холодов, еще при Бородино, Малоярославце, Красном. «Размышления...» написаны с полемической страстью, иронией, преходящей в сарказм. Но при этом в штудии М.Ф. Орлова отсутствуют шаблоны и дешевые приемы изложения. На протяжении всех «Размышлений…» автор с достоинством относится к противнику, подчеркивая его сильные стороны. Главной причиной победы русской армии М.Ф. Орлов выделял то, что война приобрела статус народной. Открывая свою заметку, он писал: «Репутация “Бюллетеней”, и прежде не блестящая, пошатнулась еще более, когда закатилась слава французской армии. Привычка и любопытство еще читать их, но благоразумный читатель, возмущенный неправдоподобием и противоречиями, с которыми сталкиваешься здесь в каждой строке, должен отбросить строгость судьи, влюбленного в истину. Надо быть снисходительным к тем, кто защищает неправое дело, и помнить, сколь затруднительно положение автора, когда факты говорят против него». Далее он продолжал: «Воздействие это таково, что, проснувшись в одно прекрасное утро после суровой ночи, французская армия нашла всех своих лошадей, замерзшими на бивуаках. Можно себе представить, какое впечатление подобное несчастье должно было произвести на командиров и солдат. Командиры потеряли голову, а солдаты – мужество. Эта ужасная ночь явилась единственной и исключительной причиной всех бед французской армии. Изучая историю этой памятной войны, надо, стало быть, весьма остерегаться некоторых ложных представлений, которые историки непременно будут стремиться навязать потомству» [6, с. 256].
Сохранившиеся исторические источники позволяют восстановить природно-климатическую действительность осени 1812 г.: по мере отступления от Москвы потери армии Наполеона постепенно возрастали. Первые морозы грянули в конце октября, они застали французов в Смоленске, где были отмечены массовые случаи смертельных замерзаний и обморожений конечностей. Тысячи французов, изнуренные болезнями, плелись за немногими боеспособными частями. В мемуарах французских военачальников и исторических произведениях 1810 – 1830-х гг. «русская зима» и «генерал Мороз» нередко выступали как основные причины поражения Наполеона. Сам Наполеон и его маршалы позже искали «объективные» причины пора- жения, ссылаясь на мороз и неправильное, с их точки зрения, «невоенное» ведение войны, пытаясь оправдаться в потере 552 тыс. чел. и свыше 1 200 орудий. Источники зафиксировали, что зима в 1812 г. наступила не только не раньше обычного, но даже позже. Температура до сражения под Красным (15 – 18 ноября) изменялась от -3 ° до -8 °С, а 18 ноября наступила оттепель, продолжавшаяся до сражения на Березине (26 – 29 ноября). И только сразу после Березины ударил мороз ниже -20 °С.
Основываясь на воспоминаниях и научной литературе [7, с. 16 – 23], сегодня можно констатировать, что первые кратковременные заморозки были еще 1 – 2 октября (температура упала до – 4 °С), когда Наполеон с армией находился в Москве. Затем погода улучшилась. По замечаниям К. Меневаля, в первой декаде октября 1812 г. «стояла прекрасная погода». На подходе к Малоярославцу пошел дождь, который был примерно до 24 октября (по ст. ст.). Температура была + 7 °C. Осадки прекратились, температура воздуха снизилась. До конца октября отмечалось ± 3 °C. Француз Констан Верге о погоде конца октября писал: «Холод все усиливался, и ночи стали морозными». Первый снег выпал только 25 октября (т.е. 6 ноября по нов. ст). Похолодало до – 6 °C. «С этого времени холод становился все сильнее и сильнее» – писал Меневаль. Выпал обильный снег, ветер наметал сугробы. Французский художник Х.В. Фабер де Фор, бывший в то время в России с армией Наполеона, запечатлел выпадение первого снега на своем рисунке «Вблизи дороги рядом с Соловьево 27 октября (8 ноября)». Эта погодная ситуация, вероятно, его поразила… Обильные осадки привели к образованию больших сугробов везде: в лесу, на полях, на дороге. В ночь на 2 ноября резко похолодало, температура упала до – 25 °C. Произошло замерзание рек, осадки прекратились. Констан Верге писал: «Термометр показывал двадцать градусов ниже нуля, и мы были еще далеко от Франции». Затем температура в начале ноября стала повышаться, дошла до + 2 °C, осадки от снега перешли в дождь. К середине ноября погода опять резко изменилась. Похолодало до – 27 °C, пошел крупный снег, перешедший в метель. Граф Сегюр в мемуарах 4 декабря (22 ноября по ст. ст.) писал: «Начались ужасные холода, как будто русское небо, видя, что Наполеон ускользает от него, удвоило свою суровость, чтобы сломить и уничтожить его!». Через два дня фразы французского мемуариста стали намного суровее: «Небо показало себя еще ужаснее: птицы падали замерзшими на лету».
Погодные условия 1812 г. активно изучались в России и в связи с выяснением причин победы над Наполеоном, и с точки зрения возникновения мифологемы и реалий культурной памяти об эпохе. Историк М. Рыкачев в статье «Холода 1812 года», опубликованной в «Трудах Московского Императорского Русского военно-исторического общества» (Т. 4. – Москва, 1912), писал: «Такие же колебания температуры встречаются и в метеорологических журналах, которые велись в Санкт-Петербурге, Риге, Виль-не, Варшаве и Киеве».
Оставшиеся в России французы-военнопленные были обречены на голодную и холодную гибель и смерть. Городничий г. Никольска, например, в феврале 1813 г. вологодскому полицмейстеру доносил, что при препровождении военнопленные получили разные степени обморожения: отмороженные пальцы рук и ног «отваливались сами», лица большинства пленных изуродовались обмороженными носами и щеками, почти у всех пленников были красные, распухшие и гноившиеся глаза. Однако все «узники войны» были снабжены одеждою и провиантом.
Против французской версии причин поражения Наполеона в 1835 г. выступил Д.В. Давыдов. В статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» он писал: «Итак, во все время шествия французской армии от Москвы до Березины, то есть в течение двадцати шести дней, стужа, хотя и не чрезвычайная (от двенадцати до семнадцати градусов), продолжалась не более трех суток, по словам Шамбре, Жо-мини и Наполеона, или пяти суток, по словам Гурго. Между тем, французская армия при выступлении своем из Москвы состояла, по списку французского Главного штаба, отбитому нами во время преследования, из ста десяти тысяч человек свежего войска, а по словам всех историков кампании, представляла только сорок пять тысяч по прибытии своем к берегам Березины. Как же подумать, чтобы стодесятитысячная армия могла лишиться шестидесяти пяти тысяч человек единственно от трех- или пятисуточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшиеся около двух месяцев сряду, и в 1808 году в Испании среди Кастильских гор, в течение всей зимней кампании, скользили, так сказать, по поверхности французской армии, не проникая в средину ее, и отстали от ней, не разрушив ни ее-единства, ни устройства? Все это приводит нас к тому уверению, что не стужа, а другое обстоятельство – причиною разрушения гигантского ополчения» [8].
В этой статье Д.В. Давыдов приводил слова генерала Гурго, адъютанта Наполеона: «Что касается до сильной стужи, то меру ее определить можно тем, что Березина не была еще покрыта льдом во время переправы чрез нее». Французский генерал маркиз де Шамбре, попавший в русский плен в сражении при Березине, в своем исследовании, на которое ссылаются почти все поздние историки по наполеоновским войнам, «История экспедиции в Россию» приводит подробные климатические условия и утверждает: «Не одна стужа расстроила и истребила французскую армию, потому что второй и девятый корпуса сохранили совершенный порядок, невзирая на претерпение такой же стужи, как и главная армия. Стужа, сухая и умеренная, сопровождавшая войска от Москвы до первого снега, была более полезна, нежели гибельна» [8].
Подводя итог, отметим, что развернувшаяся сразу после Отечественной войны 1812 г. дискуссия о причинах поражения Наполеона в России строилась на противопоставлении двух разновременных утверждений: силе и бессилии двух противоборствующих сторон. Вступив в Россию сильной и мощной армией, французы по воле противника продвигались внутрь страны. Дойдя до Москвы, заняв большую территорию, измотав физически и морально войска, Наполеон после оккупации Москвы был не готов ве- сти дальнейшую войну. Поэтому он всячески искал возможность сделать попытку передышки. Но в этот процесс начала вмешиваться природа. Соглашаясь с профессором А.И. Поповым, отметим, что природно-климатический фактор «вовсе не следует сбрасывать со счетов, ибо сами же русские участники войны понимали, что своеобразные климатические условия будут играть им на руку, и даже неоднократно предупреждали об этом противника. Перед войной Александр I сказал А. Коленкуру: “Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша зима”. Не раз указывали на это Вильсон, другие генералы и офицеры, да и сам фельдмаршал. У Вязьмы и Дорогобужа холод, действительно, был небольшим, однако нужно учитывать, что неприятельские солдаты были уже крайне ослаблены голодом. К тому же зима в том году выдалась самой морозной (на 5 – 8° ниже нормы). Но мороз также не был первопричиной, ибо Наполеон был обязан и имел время принять меры, чтобы подготовить армию к зиме”» [9, с. 319 – 320].
-
• Литература
-
1. Давыдов, Д.В. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? / Д.В. Давыдов // Библиотека для чтения. – 1835. – Т. 10.
-
2. Двадцать девятый бюллетень Великой армии. Молодечно, – 1812. [21 ноября /] Декабря 3 дня 1812 // Санкт-Петербургские ведомости. – 1813. – 14 января.
-
3. Земцов, В.Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении / В.Н. Земцов. – Екатеринбург, 2003.
-
4. Орлов, М.Ф. Размышления русского военного о 29-м бюллетене / М.Ф. Орлов // Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. – Москва, 1963. – (Литературные памятники).
-
5. Попов, А.И. Великая армия в России: Погоня за миражом / А.И. Попов. – Самара, 2002.
-
6. Скотт, В. Жизнь Наполеона Бонапарта / В. Скотт. – Т. II. – Кн. III. – Москва, 1995.
-
7. Chandler, D.G. The Origins of the Revolutionary and Napoleonic Wars / D.G. Chandler // Chandler D. G. On the Napoleonic Wars. Collected Essays. – London, 1994.
-
8. Пушкин, А.С. О народности в литературе / А.С. Пушкин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 11. – Москва – Ленинград, 1949.
-
9. Подмазо, А.А. «Не замай – дай подойти!» (размышления у картины В. В. Верещагина о партизанской войне в 1812 году) / А.А. Подмазо // «Недаром помнит вся Россия…»: материалы Международной конференции, посвященной 160-летию В.В. Верещагина и 190-летию Бородинского сражения. – Череповец, 2003.
-
Список литературы К пушкинскому пониманию причин побед русского оружия над наполеоном: культурно-антропологический комментарий
- Давыдов, Д.В. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? / Д.В. Давыдов // Библиотека для чтения. - 1835. - Т. 10.
- Двадцать девятый бюллетень Великой армии. Молодечно, - 1812. [21 ноября /] Декабря 3 дня 1812 // Санкт-Петербургские ведомости. - 1813. - 14 января.
- Земцов, В.Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении / В.Н. Земцов. - Екатеринбург, 2003.
- Орлов, М.Ф. Размышления русского военного о 29-м бюллетене / М.Ф. Орлов // Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. - Москва, 1963. - (Литературные памятники).
- Попов, А.И. Великая армия в России: Погоня за миражом / А.И. Попов. - Самара, 2002.
- Скотт, В. Жизнь Наполеона Бонапарта / В. Скотт. - Т. II. - Кн. III. - Москва, 1995.
- Chandler, D.G. The Origins of the Revolutionary and Napoleonic Wars / D.G. Chandler // Chandler D. G. On the Napoleonic Wars. Collected Essays. - London, 1994.
- Пушкин, А.С. О народности в литературе / А.С. Пушкин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 11. - Москва - Ленинград, 1949.
- Подмазо, А.А. "Не замай - дай подойти!" (размышления у картины В. В. Верещагина о партизанской войне в 1812 году) / А.А. Подмазо // "Недаром помнит вся Россия…": материалы Международной конференции, посвященной 160-летию В.В. Верещагина и 190-летию Бородинского сражения. - Череповец, 2003.