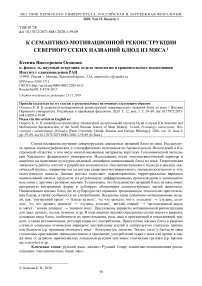К семантико-мотивационной реконструкции северно-русских названий блюд из мяса
Автор: Осипова Ксения Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению севернорусских диалектных названий блюд из мяса. Исследуются данные лексикографических и этнографических источников по Архангельской, Вологодской и Костромской областям, в том числе неопубликованные материалы картотеки Топонимической экспедиции Уральского федерального университета. Исследование носит этнолингвистический характер и нацелено на выявление культурно-языковой специфики наименований блюд из мяса. Теоретическая значимость работы состоит в разработке комплексного этнолингвистического подхода к анализу лексической группы, опирающегося на методы семантико-мотивационного, ономасиологического и этимологического анализа. Данные методы позволяют охарактеризовать территориальные варианты наименований мясных продуктов, их родовидовую дифференциацию, происхождение и мотивационные связи с другими группами лексики. Установлено, что большинство названий блюд из мяса имеет прозрачную внутреннюю форму и дублирует обозначения соответствующих частей животного. Наименования мясных блюд (не из субпродуктов) отражают традиционную технологию приготовления блюда, а также особенности их употребления. Выделены такие семантико-мотивационные модели, как: ‘внутренний орган' ‘блюдо из него', ‘то, что застыло; что-л. холодное' ‘студень, холодец', ‘то, что дрожит, трясется' ‘студень, холодец', ‘ветхий, старый' ‘заготовленный впрок (о мясе)', ‘тонкая лепешка' ‘вяленое мясо'. Предложены варианты мотивационной реконструкции для диал. артиль, жулей, путаник и др. В ходе анализа лексики определены состав мясного рациона, основные типы блюд, особенности их приготовления, роль мяса в праздничной и повседневной трапезе, а также регламентации, регулирующие его употребление. Присутствие мясных блюд в рационе служило социально-этническим маркером: употребление костей и субпродуктов считалось признаком бедности (ср. прозвище двоевары), мяса - богатства (ср. мясисто ‘богато, сыто'); блюда из мяса готовились крестьянами преимущественно в праздники; употребление сырого мяса или крови, а также мяса «с душком» приписывалось локальным русским или иным этническим группам (ср. прозвище сыроеды) и др.
Русский язык, диалект, русский север, семантико-мотивационная реконструкция, этнолингвистика, пища, мясо
Короткий адрес: https://sciup.org/147229710
IDR: 147229710 | УДК: 81'28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-3-59-69
Текст научной статьи К семантико-мотивационной реконструкции северно-русских названий блюд из мяса
Предлагаемая статья продолжает изучение группы диалектной лексики, связанной с употреблением мяса и мясных продуктов крестьянами Русского Севера (см.: [Осипова 2019]). Рассмотрев традиции забоя скота и приуроченные к нему празднества, остановимся на представлении мясного рациона жителей Русского Севера, составляющих его блюд и продуктов. Диалектные лексические и этнографические материалы, собранные в картотеках и словарях Архангельской, Вологодской и Костромской областей (КСГРС; ЛКТЭ; СГРС; АОС; СВГ; СРГК и др.), содержат сравнительно небольшое количество специальных названий мясных блюд. Относительная немногочисленность этой лексической группы, с одной стороны, обусловлена тем, что мясо на Русском Севере не входило в основной рацион, с другой – отражает номинативные особенности названий мясных блюд и продуктов, многие из которых дублируют обозначения соответствующих частей животного (ср. общенар. приготовить сердце, печень , пожарить мясо и пр.). Названия мясной пищи редко становились предметом самостоятельных исследований: в лингвистической литературе можно найти отдельные упоминания мясных блюд как части рациона; известен ряд работ, описывающих мясную кухню субарктических и сибирских территорий и связанные с ней традиции [Конкка 2003; Мало-землина 2009; Пляскина 2018; Пушкарева 2017], однако полноценные исследования о традициях употребления мяса на Русском Севере нам не известны.
Принципы «узкой» этнолингвистики, сформулированные исследователями Уральской школы ономастики, этнолингвистики и этимологии (см. работы [Березович 2014; Леонтьева 2015 и др.]), предполагают, что источником для реконструкции архаических представлений являются, в первую очередь, диалектные языковые данные. Ономасиологический аспект исследования диалектной лексики, включающий максимально полный сбор и интерпретацию комплекса наименований одной тематической группы, одного вида блюда, позволяет воссоздать представление о типах мясной пищи и ее разновидностях, в том числе территориальных вариантах. В ходе семантико-мотивационного анализа можно обнаружить регулярные сдвиги значения (например, ‘внутренний орган’ → ‘блюдо из него’, ‘холодный, застывший’ → ‘заливное из мяса’), что помогает не только реконструировать мотивацию слов с неясной этимологией, но и выявить типичные сферы-доноры для лексики пищи и на основе этого определить специфику представлений, связанных с блюдами из мяса. Этимологи- ческий аспект исследования, обращенный к наиболее архаичному пласту лексики, обнаруживает культурно-языковые заимствования из традиций других территорий, социальных групп и народов. В результате сочетания комплекса аналитических методов этнолингвистическое исследование позволяет реконструировать традицию употребления мясных блюд на Русском Севере, особенности их приготовлении и употребления, а также определить роль мяса в праздничном и повседневном рационе.
Как показывают этнографические данные, употребление мяса определяло социальный или материальный статус семьи, поскольку в достаточном количестве мясо имелось только в обеспеченных семьях, а также характеризовало религиозное поведение человека как соблюдающего или нарушающего христианские предписания относительно скоромной пищи. Для большинства жителей Русского Севера мясо не являлось основным продуктом: лишь в зажиточных семьях его включали в повседневный рацион, бедные же крестьяне ели мясо преимущественно в воскресные дни, большие праздники и на семейные торжества. К этим событиям готовилось несколько перемен мясных блюд: «За столом в праздник подают “стюдень” – квас, в который крошится студень, картофель, добавляется сметана. При отсутствии мяса от блюда остается только название, поскольку вместо мяса в него добавляли картофель и огурцы. Затем подавали щи говяжьи – густой суп из мяса и ячменных круп. Далее следовал сальник – гречневая каша, в которую кладут мелко изрубленное легкое, печень, сердце» (Тенишев 7/2: 312). В зажиточных семьях ели ососока – молодого поросенка, фаршированного яйцами с молоком, а также жареную говяжью печень, легкие, ветчину (Никольский р-н) (Тенишев 5/3: 24, 39).
В повседневном рационе значительно чаще употреблялись субпродукты, тогда как блюда из чистого мяса считались лакомством и деликатесом, благодаря чему мясо стало символом богатства, ср. мясисто ‘богато, с избытком, сыто’: «Не порато мясисто живут соседи» (Грандилев-ский 1907: 201). Большую часть мяса крестьяне продавали или сдавали государству, оставляя себе внутренности, которые воспринимались как «мясо» второго сорта, не годное для продажи (отсюда, как кажется, возник устойчивый семантический перенос ‘отходы от обмолота’ > ‘внутренности животного’, ср. арх. ме́лузь ‘внутренности животных, ливер’: «Продал корову под зарез, а мелузь выговорил себе», производное от шир. распр. ме́лузь ‘отходы при обмолоте зерновых’ (СГРС 7: 278)).
Субпродукты и блюда из них. В пищу обыкновенно шли легкое, печень, желудок и тонкий кишечник, которые называли волог. утро́бица : «Утробицу в чугунке на печке поваришь – тоже вкусно поешь» (СВГ 11: 154) или арх. брюши́на : «Брюшины наварят» (СГРС 1: 194–195). Обычно не ели, признавая нечистыми, «срамных мест, больших и широких кишок», горло, желчный пузырь (Тенишев 5/1: 58; 5/2: 38). Запреты на употребление отдельных частей мяса распространялись на некоторые социально-возрастные группы. Например, селезенку не давали детям, парням и девушкам, приписывая ей силу, притупляющую умственные способности (Тенишев 5/3: 24). Мотив съеденного «срамного» мяса, готовить которое было не принято, встречается в коллективных прозвищах. Так, разведение оленей и употребление оленины, характерное для северных народов и не типичное для русских, послужило основой иронического прозвища жителей Койденского сельского совета Мезенского района Архангельской обл. мандое́ды , народная мотивация которого представляет собой историю-анекдот: «Давно как-то старому деду подкинули вареную манду оленью, а он и съел, вот и прозвали мандоедами» (АКТЭ).
Лакомым считался желудок, набитый овсяной или ячневой крупой: обычно такое блюдо получало название по диалектному наименованию желудка или кишечника, ср. арх. желудок (АОС 13: 293); волог. брюха́вица : «Брюхавица – самый-то желудок у теленка, у поросенка, его долго мочат и потом его набивали крупой, резали такими кусочками» (КСГРС); волог. каю́ к : «Поросенка зарезали, кишок и каюк начинила сухомесом» (СГРС 5: 112); волог. подчерёвок : «Желудок, его тоже вымоешь и тоже крупой набьешь – это под-черёвок» (КСГРС); арх. переперуха ‘рубец’: «Едят “переперуху”, а “рубец”, в котором лежат все нечистоты, тщательно вычищенный и вымытый, считается лакомым кушаньем»2 (Тенишев 5/3: 629). Единственное наименование, отражающее технологию приготовления блюда, начиняемого крупой, – это волог. начинки ‘блюдо из свиных кишок, набитых овсяной крупой и обвалянных в скоромном масле’ (Тенишев 5/3: 24). Метонимический перенос ‘внутренний орган’ → ‘блюдо из него’ характерен для большинства наименований блюд из субпродуктов.
Из кишечника или «ассорти» из потрохов варили густую похлебку, куда добавляли яйца и молоко, ср. костром. кишо́чница: «Раньше кишки все чистили, промывали, кишошницу варили. С молоком, с яичком варили» (ЛКТЭ); волог. чере́вник: «На праздник пироги и шаньги пекли, и черевник больно вкусный, как суп, потроха да яйца бьют»; «В черевник кишок, печень порежут да суп сварят» (КСГРС). Это же блюдо называлось волог., костром. са́льник ‘кушанье из рубленых бараньих, свиных или говяжьих потрохов с добавлением молока и яиц’, потому как вместе с ливером в блюдо попадало большое количество жира: «Сальник готовили из свиных потрохов, они варятся, потом это заливается яйцом с молоком и топленым салом»; «Сальник типа супа, очень вкусное это. Крошили легкое больше, потроха, яйца били, опускали, молоком разводили, не жарят это» (КСГРС; СРНГ 36: 68).
Подобное блюдо из потрохов с добавлением яиц и молока в большей степени специфично для запада Вологодской обл. В южных вологодских районах са́льник представлял собой кашу с добавлением большого количества сала: «Сальник бывает очень жирный, его начинают варить осенью, когда колют овец»; «В овсяную крупу внутренностей накладем да салом нальем, вот и сальник по праздникам делали» (КСГРС; СРНГ 36: 68). Поскольку этот же состав блюдо имело в соседней Ярославской, а также Воронежской и Пензенской обл., в этом отразилось, вероятно, влияние среднерусской кулинарной традиции. Крупяное блюдо с бараньими кишками и салом готовили на севере Костромской обл. под названием му́дник (СРНГ 18: 330).
Особого комментария требует вологодское название пу́таник: «Путаник готовили: нарежут легкие, печень, сердце»; «Сальник – такой же путаник, только с жижей»; «Сальник и путаник – одно и то же: почки, сердце, печень варишь, яичек туда, молока – вкуснятина», которое с той же частотой встречается и в форме ку́таник: «Кута-ник уж шел третьим блюдом»; «Когда скотину режут, сушат печень, лёгкое. Все внутренности – а потом суп из этого варят»; «Сваришь лёгкие, сердце, почки, печень, режешь мелко на кусочки и варишь суп – кутаник» (КСГРС). Примеры диалектной мены к//п, представленной в этих названиях, находим в арх., волог. пу́хта и ку́хта ‘снег на ветках деревьев’, волог. то́кра и то́пра ‘похлебка из толокна’ (КСГРС), белом. накомéшне ‘в тягость’ при арх., олон., пск. помéшня ‘помеха’; вят., орл., перм., свердл., сиб. костромка ‘часть конной упряжи’ при шир. распр. пострóмка (Михайлова: 216, 186). Формы кутаник и путаник имеют ограниченную территорию распространения и известны только в То-темском районе Вологодской обл., где употреблялись наряду с сальник в том же значении. Учитывая словообразовательное и семантическое сходство слов диал. путаник (кутаник) и сальник, осмелимся предположить, что слова путаник (кутаник) могли быть образованы по семантико-словообразовательной модели слова сальник от некоторой, возможно, заимствованной, основы со значением ‘жир, внутренности животного’ с помощью суффикса –ник3: подобная словообразовательная модель типична для наименований мясных блюд, ср. мудник, черевник.
Пироги . Многие блюда из субпродуктов готовились к праздникам, поскольку в это время забивали скот, а внутренности животных не хранились долго – их приходилось съедать в первую очередь. Лакомыми считались пироги с ливером: волог. чере́вник : «Потроха выгоят, вычистят черева, брюшину, черева загибали в пироги, черев-ников наделаешь», волог. сальник : «На праздники у нас сальники готовили, пироги с внутренностями животных» (КСГРС). В Костромской обл. к забою скота было приурочено приготовление в печи наполненного молоком легкого: «Режут – так говорят, надо легкое надуть. Молока лили да в печь. Наливали в легкое» (ЛКТЭ). В Ленском районе Архангельской области это блюдо было известно как легкое наливно́е , в шутку его называли бабья задница , подразумевая форму и внешний вид продукта: «По праздникам легкое наливное готовили. Через гортань наливают молока в легкое, там оно как бы сепарируется внутри, внутри сливки остаются, а вода стекает. Когда течь перестает, нужно жарить. Много-то не съешь, жирное больно. Когда приносили это блюдо на стол, обычно говорили: “Принесли бабью задницу !”» (КСГРС).
Мясо, блюда из мяса. Чистое мясо без жира и жил считалось лакомством. В Костромской и Вологодской обл. его называли любови́на (любо-ви́нка): «Любовина – мясо самое хорошее, волокнистое, нежирное, без сала»; «Любовинка любимое мяско, от слова “любить”», ‘лучший кусок мяса’ (КСГРС; ЛКТЭ; СВГ 4: 60; СРНГ 17: 237). Для приведенных русских примеров восстанавливается корень либ-, принадлежащий гнезду праслав. *libъ ‘худой, слабый, болезненный’ (ЭССЯ 15: 71–74): его праславянская семантика сохранялась в др.-рус., рус.-цслав. либѣвыи ‘тощий, худой’, а также в некоторых диалектах, ср. новг., олон., прионеж. ли́би́вый ‘тощий, слабый, хилый’, печор. любивой ‘тощий, худой’ [ЭССЯ 15: 71]. Семантический переход ‘тощий, худой, слабый’ > ‘нежирный (о мясе)’ типичен для многих этимолого-словообразовательных гнезд, ср. семантику прил. тощий, худой, тонкий. Формы с корнем *lib-, обозначающие нежирное мясо, распространены не только в русских говорах, но и в других славянских языках, ср. рус. влад., псков., ряз., смол., яросл. лю-бови́на ‘мясо без жира и сухожилий’, курск. ли-бавчи́на ‘слой мяса на свином сале’, смолен. ли́било ‘мясная приманка, на которую ловят раков’, с.-х. либовина ‘мясо, окорок’, словен. libovína ‘мясо без костей’, чеш. libovina ‘мясо без жира и костей’, блр. диал. любавíна, польск. диал. libowe mięso ‘мясо средней упитанности’ (ЭССЯ 15: 71–74). Чередование корневого гласного либ-/люб- объясняется сближением с гл. любить: согласно народным толкованиям, любови-на была самым вкусным и любимым мясом.
Отношение к жиру и «постному» мясу было неоднозначным. Так, возникшие в результате народной этимологии любови́на ‘нежирное мясо’ или костр. нищее мясо ‘мясо с большим количеством сала’ (ЛКТЭ) указывают на неоспоримую ценность мягкого нежирного мяса и оценку жирного мяса как пустого и бедного. Не до конца ясным с точки зрения мотивации кажется арх., костром. прямое мясо ‘не жирное, тощее; говядина’ (УНС: 278; СРНГ 33: 88), ср. также лит. и латв. прямое мясо : «Мясо есть прямое и жирное»; пск., твер., петерб. прями́зма ‘мякоть говядины без сухожилий и жира’ (СРНГ 33: 86). Прил. прямой здесь может как употребляться в оценочном значении ‘правильный, хороший’, так и отмечать действительные свойства мяса: лучшие куски мяса, без жира и сухожилий (например, вырезка), имеют правильную форму, в них видны прямые, ровные волокна.
В то же время жир ценился за питательность и вкусовые качества: сало придавало мясу сочность, мягкость и сытность – с ним варили любимые крестьянами саломат и сальник , из сала готовили шкварки. О вкусовых предпочтениях крестьян и пристрастии к жирному мясу говорят такие примеры и контексты, как волог. облито́й ‘жирный (о мясе)’: «Мясо от козлушки скусное, облитое» (СВГ 5: 122), арх. оде́ной ‘жирный (о мясе)’ при оде́ной ‘чисто, щеголевато одетый’ (Подвысоцкий: 108). Малосъедобным считалось сухое, волокнистое мясо, ср. волог. падеря́тина (СРНГ 25: 129), арх. вичева́тое мясо (там же: 19), волог., арх. боло́нистое (АОС 2: 58), а также жилы (волог. лён , лено́к (СРНГ 16: 351, 355)) и мясо паховой области (волог. паши́на : «Ну зачем такое мясо – одна пашина» (СВГ 7: 21)).
Названия костей в переносном употреблении обозначали некачественное мясо, ср. костром. макла́к ‘мосол, выступающая кость’, ‘мясо плохого качества’ (СРНГ 17: 311). В поморской пословице, построенной на противопоставлении мясного куска и костей, осуждалась человеческая жадность: Себе-то конька (грудка птицы) взял, а мне дал огнивце (Кушков 2011: 51) при волог. огни́во ‘плечевая кость у птицы’ (СРНГ 22: 329). В качестве символа бедности кости встречаются в коллективных прозвищах: они становятся атрибутом жителей Виноградовского района, которые носили прозвище двоева́ры, потому что «кость два раза варили» (АКТЭ). Жителей д. Явзора соседнего Пинежского района называли костогрызы: «Явзорцы раньше всё больше мясо ели. Богаты были, зажиточные, значит» (СКП: 169–170), очевидно, подразумевая, что они не имели средств на покупку мяса. Отраженную в контексте мотивационную версию следует считать позднейшей, народноэтимологической интерпретацией внутренней формы прозвища: приведенные языковые примеры, а также сведения о материальном положении крестьян Пинеги подтверждают, что жили они достаточно бедно и голодно, в особенности, по сравнению с более обеспеченными жителями Мезенского района, которые имели выход к морю и занимались торговлей. Противопоставление бедных пинежан и состоятельных мезенцев обыгрывается и через другие «пищевые» образы, например, «вода – кофе», «пустой суп – рыба», ср. водохлебы, пустохлебы ‘жители Пинежского района’ – кофейники, трескоеды ‘жители Мезенского района’ (СКП: 401–403).
Щи, бульон. Самым распространенным повседневным и праздничным блюдом были щи, основу которых на Русском Севере составляла не капуста, а мясо и крупа, ср. арх. шти , волог. щи ‘мясной суп’: «У нас все шти, когда с мясом, когда так – похлебка» (КСГРС); щи скоро́мяные ‘мясной суп с крупой’ (СВГ 12: 117). Мясные щи были признаком достатка хозяев: арх. «Раньше кто богатый, в шчи и картошки не ложил – одно мясо» (СГРС 1: 95); арх. мясо ищет кусок-то куска ‘в супе мало мяса’: «Мясо ищет кусок-то куска, а раньше мяса полчюгуна, лошка стоит, у кого достаток» (АОС 12: 115).
Реже употреблялся просто бульон, который обыкновенно готовили из свежего, парного мяса, ср. костром. взвар , взварец ‘бульон’: «Взварец обычно из теленка готовили» (Ганцовская: 52). Интересно, что на поморских территориях, где основным блюдом была похлебка из рыбы, слово уха употреблялось и как наименование мясного или рыбного бульона или супа, ср. «Гусиной ухи похлебашь? Я зарежу петуха – будёт скусна уха; С гуся-то уха скусна!»; «С сёмги-то уха – одна саломата»; Из звонка́ уха тонка́ (Мосеев: 33; 118; Меркурьев: 170).
Студень. Студень или холодец обычно подавались первыми на праздничной трапезе: «К родне, не к родне гостились, первым делом студень» (арх., волог.) (КСГРС; СВГ 10: 145; Тени-шев 5/3: 111). Названия холодца отражают низкую температуру застывания (ср. волог . за́стыль (Дилакторский: 163); волог. холо́днее , холо́дное (КСГРС)), а также желеобразную консистенцию готового блюда. Большая часть названий последней группы имеет экспрессивные пренебрежительные или иронические коннотации, ср. образованные от гл. дрожать – волог. дрожу́н
(КСГРС), костром. дрожалка : «На праздник дрожалку буду делать»; «Что за холодец, одна дрожалка!» (Ганцовская: 97); от гл. трясти(сь) – волог. трясу́нья ‘студень’ (СВГ 11: 70); от гл. дрыгать – арх. дры́ гало (СГРС 3: 140), костром. дры́ ганица : «У них (ветчанят) слова как бы исковерканы: у нас мяконек – у них колоб, у нас холодец – у них дрыганица», – по мнению жителей Вохомского района, так говорили приезжие с Вятки (ЛКТЭ).
Не до конца ясную мотивацию имеет волог. жу́лей ‘студень, застывший рыбный или мясной бульон’, который отмечен в словаре П. А. Ди-лакторского, где приводится по источнику, опубликованному до 1852 г., и, к сожалению, не сопровождается более точной географической дистрибуцией (Дилакторский: 132). Поиск словообразовательных связей этой формы приводит к новг. гл. жу́литься ‘жаться, ежиться’: «Ты чего жулишься, замёрз?» (Мошенский р-н; Пестовский р-н) (НОС: 263), записанному в восточных районах Новгородской обл., которые граничат с Вологодскими землями. Шире на новгородской территории распространен его префиксальный вариант сжу́литься ‘сжаться, скорчиться; съежиться’ (Пестовский р-н) (НОС: 1081), а в псковских говорах отмечен гл. жу́литься ‘ежиться от холода’ (ПОС 10: 274). Поскольку большая часть названий холодца образована от глаголов с семантикой ‘дрожжать, трястись’ и ‘стыть, холодеть’, в том числе ‘дрожать от холода’ (ср. упомянутые выше дрожать , трястись , дрыгать ; стыть , студить ), вологодское название жулей ‘застывший бульон’ может восходить к гл. жу́литься ‘сжиматься; дрожать; мерзнуть, стыть’. Таким образом, это слово связывает вологодские говоры с новгородскими, определяемыми как говоры изначального влияния.
Маканина (жаркое). Одним из основных праздничных блюд было томленое в печи мясо, иногда с добавлением лука. Процесс приготовления блюда отражен в его названиях, образованных от гл. жарить , пряжить , тушить : костром. жарко́вье ‘тушёная картошка с мясом’: «Жарковье-то сейчас на свадьбах подают» (Ган-цовская: 107), арх. жа́ренье , жа́рница , жаварё-ха4 ‘жареное мясо или рыба’ (СГРС 3: 340; АОС 13: 225); волог. пряжёное мясо ‘запеченное в печи мясо’ (КСГРС); волог. тушё́нка ‘тушёная картошка с мясом’: «На праздник еще тушенку делали – это картошка да мясо. Тушёнок делали по три чигуна» (СВГ 11: 79).
Поскольку жаркое употребляли, обмакивая в него хлеб, его называли волог. макани́на, ма-ку́шка, маку́шечка: «Макушка из картошки, мяса и лука. В русской печи томится. Мачут хлебом, вот и макушка» (КСГРС; СВГ 4: 67). Распро- страненность такого способа подачи и употребления блюда отразилась в прозвище жителей д. Лямица Онежского района та́мицкий мочо́к: «Раньше-то ложек, вилок не было, дак все ели хлебом, макали и ели» (АКТЭ). В Никольском районе Вологодской области мясной навар, куда макают хлеб, называли ёлы́ ч (КСГРС). Это название стало результатом развития более распространенного на этой же территории елы́ ч ‘рассол для говядины или рыбы’ (СРНГ 8: 351), родственного твер. елы́ ч ‘горечь в пище от большого количества соли’ (СРНГ 8: 351), а также пск., сев.-зап., смол., тул. е́лкий ‘горький, прогорклый’ (Фасмер II: 16). Появление значения ‘мясной навар’ было связано с тем, что для приготовления жаркого нередко использовали мясо, засоленное впрок, ср. волог. солони́на ‘отвар, получаемый при варке засоленного мяса’: «Валька в печь мясо ставила, так я досыта солонины пирогом намакалась» (СВГ 10: 76).
Поскольку мясо появлялось на крестьянском столе нечасто и считалось одним из самых ценных продуктов, существовали негласные правила употребления мясных блюд. Обыкновенно мясо выкладывали на деревянную тарелку и разрезали: есть его разрешалось лишь после того, как хозяин стукал ложкой и говорил: «Начинайте таскать» (Тенишев 5/2: 37). Подавая гостям мясной суп или тушеное мясо, сначала наливали бульон без мяса, который ели с хлебом, чтобы утолить первый голод, и только затем выносили бульон с мясом. Такое блюдо в Архангельской обл. называлось крошо́нки : «Первые крошонки, их выхлёбывают, а вторую тарелку ели с мясом суп. Надо ведь наестись. Если с мясом первую тарелку, то не хватит» (СГРС 6: 176, 177), ср. волог. кро́шево ‘куски мяса в щах’ (СРНГ 15: 288).
Пироги . В Вологодской и Костромской обл. к праздникам пекли пирог с говядиной или свининой. Названия таких пирогов отражают вид мяса, используемого в качестве начинки, ср. мясник или мясничо́к (Ганцовская: 219; Дилакторский: 266; СВГ 5: 17; СГРС 7: 394); волог. гове́дельник (СГРС 3: 55); волог. свини́нник (СРГК 6: 9); во-лог. ту́ковик ‘пирог с кусочками сала’ (СРНГ 45: 229). Единичную лексикографическую фиксацию имеет волог. скля́ны ‘маленькие мясные пирожки’ (Дилакторский: 460), происхождение которого пока кажется неясным.
В Онежском и Шенкурском районах Архангельской обл. мясной пирог, который готовился к свадебному обеду и подавался во время сватанья поезжанам, назывался кокку́й (Подвысоцкий: 77) или куккуй (Ефименко 2: 264). В качестве обозначения ритуального блюда в русских говорах прижилось заимствование из прибалтийско-финских языков – обозначение закрытого пирога с мясом или рыбой: в современном финском языке известно kalakukko ‘рыбник’ (БФРС: 189), в говорах Карелии – kukko ‘закрытый пирог’ (ССКГК: 242). В финно-угорском языке-источнике название пирога восходит к обозначению петуха, ср. олонецк. kukoi, вепс. kukoi ‘петух’, карел. kukkо ‘петух’ (Фасмер II: 405), образ которого, вероятно, был обусловлен изначальным составом начинки и / или формой изделия, напоминающей петушиный гребень.
Непростой задачей была заготовка мяса впрок : мясо хранили или в погребах-ледниках, или заготавливали, заливая соленым раствором. Полученное соленое мясо, ср. волог. солени́на (СВГ 10: 78; СРГК 6: 209), доставали по мере надобности и использовали для приготовления пищи. Поскольку по отношению к соли крестьяне были крайне бережливы, мясо не получалось хорошо просоленным и приобретало специфический запах и вкус. К примеру, за пристрастие к мясу «с душком» жителей куста деревень Рот-ковец Коношского района Архангельской обл. называли роткóвская говя́дина : «Изгниет мясо, а они его едят» (АКТЭ). Менее распространенным был способ заготовки, при котором просоленные или замороженные внутренности заливали салом: в Вожегодском р-не Вологодской обл. такой полуфабрикат назывался са́льник (СРНГ 36: 68).
Соленое мясо могли вывешивать для просушки, получая вяленое мясо. Его названия арх. ве-ща́лое мясо , а также арх. ветша́ное мясо ‘испорченное, заплесневевшее’ (АОС 4: 42, 25) относятся к гнезду прил. ветхий ‘старый’. Они составляют оппозицию выражению свежее мясо , подобно тому как ветчина́ образует пару сущ. свежина́ (Фасмер I: 307). Наименования арх. верша́лое мясо , верша́ленное мясо (АОС 3: 143), арх. верши́нное мясо (СГРС 2: 75) производны от сущ. верх , поскольку для просушки мясо обыкновенно подвешивалось в амбаре или погребе: «Мясо весят, вершало мясо» (арх.), ср. арх. вер-шала́ ‘приспособление из жерди на двух столбах, куда подвешивают сети или снопы для просушки’ (АОС 3: 143).
Другие названия вяленого мяса – волог. ко-ко́рка, арх. арте́ль, костром. харч. Записанное в Устюженском районе Вологодской обл. коко́рка ‘вяленое мясо (обычно дичь)’ (Дилакторский: 200; СРНГ 14: 97) соотносится с распространенным на соседних новгородских территориях сущ. коко́рка ‘тонкая лепешка’ (СРНГ 14: 96) на основе признаков формы и твердости этих продук-тов5. Источником арх. арти́ль ‘всё мясное, кроме птицы и баранины, запасаемое впрок в сушеном виде’ (Шенкурский у.) (СРНГ 1: 279) является общенар. артель ‘группа людей, объединенных для совместной работы’, которое известно в ар- хангельских и вологодских говорах в форме ар-те́ль и арти́ль, а его значение варьируется от ‘группа людей, компания’, ‘семья’ до ‘еда, пища’, ‘еда, выставляемая на стол’, ‘отдельное блюдо, кушанье’ (КСГРС). Вероятно, семантические изменения происходили в направлении ‘группа совместно работающих людей’ > ‘группа совместно живущих людей’, ‘семья’ > ‘группа людей, совместно принимающих пищу’, откуда уже появились значения – ‘совместная трапеза’ и ‘пища, выставляемая на стол для совместной трапезы’6. Значение ‘засушенное впрок мясо’ стало результатом семантического сдвига ‘еда, пища’ > ‘запас пищи’. Подобным образом появилось костром. харч ‘любое мясо; мясные припасы’ (Поветлужье) (СРНГ 49: 333), производное от родового понятия ‘еда, пища вообще’ (ср. об-щенар. харчи).
Кровь, блюда из крови. Редкими в русской кухне были блюда из крови, поскольку ее употребление нарушало этические и христианские нормативы. Традиция приготовления крови – блюда из крови свиньи – известна на юго-западе севернорусской зоны: в Вохомском районе Костромской обл. («Кровь пекли. Когда поросенка режешь, кровь начерпаешь и обжаришь, ленешь немного масла, и очень вкусно будет. Кровь – густая, хоть ножом режь» (ЛКТЭ)) и в Тотем-ском р-не Вологодской обл. («Кровь – первое блюдо на свежине» (КСГРС)). На северовосточных территориях известны блюда из оленьей крови, которые восходят к кухне ненцев-оленеводов, ср. арх. кровяная шаньга ‘оладья из теста на оленьей крови’ (Мезенский р-н) (СГРС 6: 170). Традиция употребления оленины не прижилась среди русского населения Севера, хотя она была основной пищей многих северных народов – коми, ненцев, саамов, блюда которых были известны русским, ср. кисель ‘кушанье у зырян из оленьих жил с примесью молока и муки’ (Подвысоцкий: 66), ли́нда ‘мучная похлебка из рыбы или оленины’: «На ее (лопарки) обязанности лежит приготовление линды – ухи из рыбы (иногда мяса оленьего) – род грязноватой невкусной похлебки с примесью незначительного количества муки» (Беломорье) (Подвысоцкий: 82).
Употребление сырого мяса и крови. В северных районах Архангельской области сохранились выражения, относящиеся к употреблению сырого мяса, в том числе непосредственно после забоя скотины, ср. есть что-л. сырко́м ‘в сыром, не вареном виде’ (Мезенский р-н) (СРНГ 43: 153). Практика «сыроедения» была распространена среди некоторых финно-угорских народов, с которыми на северных территориях соседствовали русские крестьяне. В северо-восточных районах Архангельской обл., где русское населе- ние контактировало с ненцами, записаны глаголы обурди́ть, обурда́ть (Мезенский р-н) (Под-высоцкий: 106; СРНГ 22: 252) и бурдова́ть ‘есть сырое мясо или рыбу’ (Верхнетоемский, Пинеж-ский р-ны) (СГРС 1: 220). Согласно МФУЗ, эти глаголы восходят к рус. айбурдать, заимствованному из нен. ңая˘барць ‘есть мясо или рыбу в сыром виде’ (МФУЗ 1: 41). К этому же гнезду относится арх. айба́рча́ ‘свежая оленья кровь, которую пьют оленеводы; кушанье из оленьей крови с мелко нарезанными кусочками мяса’: «Мясо маленькима нарязывали, в кровь солену бросали, айбарчу-то хлебали»; «То оленеводы: забьют, рог подставят – кровь туда хлещет, они эту айбарчу и пьют» (Мезенский р-н) (СГРС 1: 9)7. Лишь малая часть русского населения переняла практику употребления сырой оленьей крови, оценивая такие блюда как вкусные и питательные: «Айдате айбарчу хлебать! Айбарча скусна; кровь оленью посолим, мясо накрошим и хлебам» (там же), тогда как большинство русских считали эту пищу для себя не приемлемой, характерной исключительно для ненцев и коми: «Мясо сырое комики бурдуют» (Верхнетоемский р-н) (там же: 220); «И мясо и рыбу сырком они едят» (Подвысоцкий 1885: 169).
Препятствием к употреблению сырого мяса русским населением были этические и христианские нормативы, устанавливающие запрет на блюда из сырой крови, потому что, как утверждается в Ветхом завете, кровь есть «душа всякого тела»: «Если кто… на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею <…> не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его; всякий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17: 13–14). Поскольку употребление сырого мяса было непривычно и удивительно для русских крестьян, в их речи появились прозвища «соседей», рацион которых включал термически не обработанные мясо и рыбу. Например, жителей Каргопольского уезда и полуострова Канин Нос Архангельской обл. называли сырое́ды: «Жители очень любят есть сырую рыбу и сырое мясо. И сейчас любят они рыбку сырком есть и приговаривают: “Рыбка сыра и вкусна, да в ней сила наша, в жилах кровинушка наша текёт”» (СКП: 150). Эти географически удаленные друг от друга территории сходны в своем пограничном положении: жители крайнего северо-востока Архангельской обл. оказывались в зоне контакта с ненцами, тогда как крестьяне Каргопольского района контактировали с населением соседней Карелии. В основу прозвища сыроеды могли лечь пищевые привычки именно этих финно-угорских групп: употребление ненцами сырой рыбы и оленины, карелами и саамами – сырой рыбы8. Показательно, что в иллюстративной части словарной статьи прозвище сырое́ды подается в одном ряду с этнонимом чудь белоглазая: «Каргопольцы – чудь белоглазая, сыроеды» (СРНГ 43: 160). В Никольском районе Вологодской области записано индивидуальное прозвище Самое́д, данное за употребление сырого мяса, которое приписывалось самоедам: «У нас Ваня мужичок был, Самоедом его звали. Ел сырое мясо, жил на поселении один-единственный в кругу» (АКТЭ). Таким образом, для русских крестьян «сыроедение» ассоциировалось прежде всего с употреблением сырой рыбы или мяса, которое было непривычно славянам и четко дифференцировало «своих» и «чужих».
Проведенное этнолингвистическое исследование лексики, обозначающей блюда из мяса, позволяет восстановить фрагмент рациона севернорусских крестьян. Судя по количественному составу проанализированных наименований, основными мясными блюдами на Русском Севере были запеченные в печи субпродукты, каша с салом и субпродуктами, пироги с ливером, мясные щи, жаркое, студень; впрок мясо заготавливали путем соления и вяления. Лексика, свидетельствующая об употреблении блюд из крови русскими крестьянами, встречается лишь в двух районах Костромской и Вологодской обл. В ходе анализа были выявлены семантико-мотивационные модели, характерные для названий блюд из мяса и субпродуктов, например, ‘внутренний орган’ → ‘блюдо из него’ (ср. желудок, каюк, переперуха), ‘то, что застыло; холодное’ → ‘студень, холодец’, ‘то, что дрожит, трясется’ → ‘студень, холодец’ (ср. дрыганица, дрожун). Наименования мясных блюд (не из субпродуктов) отражают традиционную технологию приготовления блюда (жарница, тушенка, соленина, ветшаное мясо), а также особенности употребления (маканина, крошонки). Выявленные модели семантических переходов позволили предложить вариант мотивационной реконструкции для диал. артиль, жулей, путаник и др. Была выявлена группа заимствованных слов (коккуй, бур-довать, возможно, диал. путаник), а также наименований, отразивших чуждую для русских кулинарную традицию (ср. есть сырком, кровяная шаньга). Заимствования из финно-угорских языков немногочисленны и встречаются преимущественно на северных архангельских территориях: в силу разных вкусовых привычек русские редко заимствовали мясные блюда у других народов (ср. линда, обурди́ть – в словарях эти слова встречаются с пометами, указывающими на их чуждость русской традиции). Употребление сырого мяса или крови, а также мяса «с душком» приписывалось локальным русским или иным этническим группам (ср. прозвище сыроеды и др.).
Присутствие мясных блюд в рационе служило социально-этническим маркером: употребление субпродуктов было признаком бедности, мяса – богатства. Мясная пища не считалась повседневной и по большей части употреблялась в праздничные дни. Особая обрядовая роль отводилась мясным пирогам и студням, которые обязательно подавались, например, на свадебном застолье.
Примечания
-
1 Авторская работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-18-01373 «Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвистические исследования».
-
2 Лексема переперу́ха , вероятно, является фонетическим вариантом более известного обозначения желудка перебери́ха : «В основе данного наименования – указание на процесс, происходящий в желудке, где пища как бы “перебирается” благодаря многочисленным ячейкам и складкам слизистой оболочки» [Ушинскене 2012: 100].
-
3 Поиск возможной производящей основы для слов путаник , кутаник ‘блюдо из внутренностей животных’ обнаруживает арх. беломор. пу́тка ‘кушанье из вареных рыбьих внутренностей’, мурман. ‘внутренности рыбы, желудок’ (СРНГ 33: 152), карел., помор. путка ‘желудок рыбы’ (СРГК 5: 360; Мосеев: 102). Для путка и кукша ‘рыбьи внутренности’ этимоном является карел. kupšu , тогда как путка ‘кушанье из вареных рыбьих внутренностей’ связывают с саам. duoska ‘наполовину проваренное кушанье из внутренностей’ [Мызников 2019: 639]. Возможность словообразовательного переразложения заимствованных лексем и выделения корня пут- позволяет предполагать оформление сущ. путаник ‘блюдо из субпродуктов’ по семантико-словообразовательному типу сущ. сальник. Под вопросом остается географическая удаленность форм: форма путка ‘рыбьи внутренности’ встречается в Терском и Кемском районах Карелии, бывшем Вытегорском уезде Олонецкой губ., путаник ‘блюдо из внутренностей’ – в Тотемском районе Вологодской обл. Заметим, однако, что на территории Вожегодского района Вологодской обл., занимающего промежуточное географическое положение между Вытегорским и То-темским районами, известно слово ку́кша ‘внутренности животного, рыбы, птицы (обычно – часть кишечника)’: «Кукша – отбросы у коровы, кишки, черёва зовут ещё» (СГРС 6: 241), которое может быть родственно ку́кша ‘блюдо из рыбьих потрохов’ и подтверждать реальность семантического сдвига ‘рыбьи внутренности’ > ‘внутренности животных’.
-
4 Вариант с эпентезой -в- .
-
5 Для арх. коко́ра ‘сушеная рыба, рыбья голова’ (СГРС 5: 226) предпочтительнее сопоставление с сущ. коко́ра ‘коряга’ (СГРС 5: 224), записанным на этой же территории.
-
6 Подробнее о семантике севернорус. арти́ль , артель (см.: [Осипова 2015]).
-
7 О сохранении этой традиции у современных ненцев (см.: [Пушкарева 2017]). О пищевой и культурной роли оленины в питании древних северных народов см., например, в книге А. Павловской «Кухня первобытного человека» [Павловская 2015: 150–158].
-
8 Отличие в мясном рационе саамов и ненцев отмечал еще М. В. Ломоносов, выявляя зависимость их внешнего облика от употребляемой пищи: «Живут и лопари <саамы>, питаясь почти одною только рыбою... и сравните их с живущими в том же климате самоядами <ненцы>, питающимися по большей части мясом. Первые ростом мелки и малолюдны... самояды, напротив того, ростом немалы, широкоплечи и сильны…» (цит. по: [Лисниченко, 2007: 56]).
Researcher in the Department of Typology and Comparative Linguistics
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
ResearcherID: F-4554-2017
Submitted 23.11.2019
The article deals with North Russian dialect names of meat dishes. The work examines the lexical and ethnographic data presented in card indexes and dictionaries of the Arkhangelsk, Vologda and Kostroma regions, including unpublished materials from card indexes of the Toponymic expedition of the Ural Federal University. The study is carried out within ethnolinguistics and aims to identify the cultural and linguistic features of the names of meat dishes. The theoretical significance of the work consists in that it develops a comprehensive ethnolinguistic approach to the analysis of the lexical group based on the methods of semantic-motivational, onomasiological, and etymological analysis. These methods allow us to characterize the territorial variants of the names of meat products, their genus-species differentiation, origin and motivational ties with other groups of vocabulary. It has been revealed that most of the names of meat dishes have a transparent internal form and duplicate the designations of the corresponding parts of the animal. The names of meat dishes (not from offal) reflect the traditional technology of cooking as well as the peculiarities of consuming the dishes. The following semantic and motivational models are distinguished: ‘internal organ’ → ‘dish from it’, ‘something that has frozen; something cold’ → ‘aspic, jelly’, ‘something that shakes’ → ‘aspic, jelly’, ‘being old’ → ‘prepared for future consumption (about meat)’, ‘thin flat cake’ → ‘jerked beef’. There is proposed motivational reconstruction for the dialect words
артиль
Список литературы К семантико-мотивационной реконструкции северно-русских названий блюд из мяса
- Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. 488 с.
- Конкка А. Святки в Панозере, или крещенская свинья // Панозеро: сердце Беломорской Карелии / ред. А. П. Конкка, В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2003. С.130-153.
- Леонтьева Т. В. Модели и сферы репрезентации социально-регулятивной семантики в русской языковой традиции: дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2015. 427 с.
- Лисниченко В. В., Лисниченко Н. Б. Экология помора. Архангельск: Правда Севера, 2007. 96 с.
- Малоземлина О. В. Лексика пищи в говорах камчадалов: дис. ... канд. филол. наук. Петропавловск-Камчатский, 2009. 134 с.
- Мызников С. А. Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 1076 с.
- Осипова К. В. Мясо в рационе севернорусских крестьян: этнолингвистический аспект // Сибирский филологический журнал (в печати).
- Осипова К. В. Коллективные трапезы как воплощение ценностей крестьянского общежития (на материале диалектной лексики Русского Севера) // Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2015. С. 187-202.
- Павловская А. Кухня первобытного человека. Как еда сделала человека разумным. М.: Ломоносову 2015. 304 с.
- Пляскина Е. И. Лексика, репрезентирующая мясные блюда в байкальских говорах // Четвертые Моисеевские чтения: национальные и региональные особенности языка: материалы Всеросс. (с междунар. участием) науч. конф., Оренбург, 22-24 ноября 2018 г.: в 2 ч. Оренбург: Оренбургская книга, 2018. Ч. 2. С. 83-87.
- Пушкарева Е. Т. Субарктическая кухня ненцев в современном обрамлении // Праздничная и
- обрядовая пища народов / отв. ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина; Ин-т этнологии и антропологии РАН. М.: Наука, 2017. С. 227-235.
- Ушинскене В. Народная анатомическая терминология в русском языке: словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов. Вильнюс: Вильнюсский университет, 2012. 162 с.