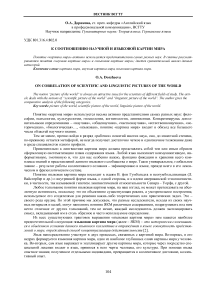К соотношению научной и языковой картин мира
Автор: Доржеева О.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (30), 2010 года.
Бесплатный доступ
Понятие «картина мира» активно используется представителями самых разных наук. В статье рассмат- риваются понятия «научная картина мира» и «языковая картина мира»; дается сравнительный анализ данных категорий.
Картина мира, научная картина мира, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/142142195
IDR: 142142195 | УДК: 801.316.4:802.0
Текст научной статьи К соотношению научной и языковой картин мира
Понятие «картина мира» используется весьма активно представителями самых разных наук: философии, психологии, культурологии, гносеологии, когнитологии, лингвистики. Конкретизируясь дополнительными определениями - «научная», «общенаучная», «частнонаучная», «естественнонаучная», «историческая», «биологическая»..., «языковая», понятие «картина мира» входит в обиход все большего числа областей научного знания.
Тем не менее, прочно войдя в разряд «рабочих» понятий многих наук, оно, до известной степени, по-прежнему остается метафорой, не всегда получает достаточно четкое и однозначное толкование даже в среде специалистов одного профиля.
Применительно к лингвистике картина мира должна представлять собой тем или иным образом оформленную систематизацию плана содержания языка. Любой язык выполняет коммуникативную, информативную, эмотивную и, что для нас особенно важно, функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений данного языкового сообщества о мире. Такое универсальное, глобальное знание - результат работы коллективного сознания - зафиксировано в языке, прежде всего в его лексическом и фразеологическом составе.
Понятие языковая картина мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка, с одной стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира - Уорфа, с другой.
Любое толкование понятия языковая картина мира, на наш взгляд, не может претендовать на абсолютную истинность, поскольку это не объективно существующая реалия, а умозрительное построение, используемое его создателями для решения каких-либо теоретических или практических задач. Это -своего рода орудие. По этой причине мы допускаем, что разные исследователи, исходя из своих научных интересов и целей, могут наполнять понятие ЯКМ различным содержанием, подразумевать под ним нечто отличное от других толкований, тем не менее, каждый исследователь должен эксплицировать смысл, вкладываемый им в столь образное и часто используемое определение.
Из всех существующих трактовок выражения «языковая картина мира» нам кажется наиболее предпочтительной следующая: языковая картина мира (далее - ЯКМ) - это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ концептуализации действительности [2].
Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры. При помощи языка опытное знание, полученное отдельными индивидами, превращается в коллективное достояние, коллективный опыт.
Рассуждая о проблеме представления знания в ЯКМ, В.Б. Касевич отмечает, что на уровне языка, в языковой или оязыковленной форме знание представлено на двух уровнях: собственно языковое знание и текстовое знание [1]; собственно языковое знание – «наиболее глубинный слой картины мира», соотносится с наивной картиной мира в ее феноменологическом статусе, текстовое знание – «другие картины мира» как более или менее эксплицитное индивидуальное и социальное знание, представленное в содержании устных и письменных текстов.
Противопоставление собственно ЯКМ наиболее глубинного уровня и других более эксплицитных картин мира отображает их различное «место прибывания». «Языковая картина мира» - метамодель лингвистических исследований, создаваемая на основе анализа семантических систем языков, «другие картины мира» - совокупность текстов, дискурсов различной мировоззренческой и научной принадлежности в их содержательном, но, тем не менее, оязыковленном аспекте.
Начиная с уровня текстового представления знания выделяются обыденная (ненаучная) и научная картина мира.
Как отмечает Т.Л. Верхотурова, атрибут «языковая» в отечественном языкознании традиционно почти автоматически уравнивался (и уравнивается до сих пор) с атрибутом «наивная», и языковая, т.е. наивная картина мира приписывалась обыденному сознанию (folk psychology в терминологии А. Вержбицкой) [2]. В подавляющем большинстве современных лингвистических работ эта категория - языко-вая/наивная картина мира используется без определения, как некая общеэпистемическая универсалия a priori, что весьма усложняет ее определение. К тому же не менее трудным является уточнение отношения языковой/наивной картины мира к другим картинам мира и, наконец, к той, которая представляет для нас особый интерес – научной.
Ю.Д.Апресян пишет, что «наивная картина мира … отражает материальный и духовный опыт народа – носителя данного языка …» [3]. Е.С. Яковлева дает определение языковой картины как «зафиксированной в языке и специфической для данного языкового коллектива схемы восприятия действительности» [4]. Из этих определений Т.Л. Верхотурова делает вывод, что языковая картина мира существует только в виде национальных картин мира, т.е. ЯКМ без определения национальная может существовать только как виртуальная абстракция [2].
В концепции А.В. Кравченко указывается на необходимость различения понятий языковая картина мира и наивная картина мира как раз по причине несводимости ЯКМ к наивной картине мира [5]. ЯКМ тождественна наивной картине мира только как универсальное выражение концептуализации опыта. Концептуализация осуществляется посредством двух каналов – непосредственного (аналитического) взаимодействия с действительностью, генерирующего феноменологическое (перцептивное) знание, и опосредованного (синтезирующего) взаимодействия с этим феноменологическим знанием, гененери-рующего структуральное знание. Феноменологическое знание соотносимо с уровнем наивного представления действительности. Структуральное знание, включающее научную картину мира, в принципе невозможно вне языковой формы. Языковая форма – ЯКМ – оказывается более широкой категорией, включающей в себя наивную картину мира.
Представляется, что такое уточнение понятий наивной и языковой картин мира продуктивно: оно обеспечивает системность иерархии картин мира. ЯКМ – языковое знание – становится категорией-классификатором, охватывающей собственно языковое, наивное знание – семантическую систему или наивную картину мира, а также обыденное и научное знание в текстовом (языковом) выражении.
В отечественном языкознании еще в середине 20-го века Л.В.Щерба обращал внимание на понятийно-семантические различия языкового представления мира в научной терминологии и в обычном литературном языке [6]. Ю.Д.Апресян утверждает, что «наивная картина мира … может разительным образом отличаться от чисто логической, научной картины, которая является общей для людей, говорящих на самых различных языках » [3]. Да, наивная (языковая, национальная) картина мира весьма отличается от научной, но провести логически четкую линию демаркизации между ними не представляется возможным, поскольку естественный язык является основным семиотическим «поставщиком» научного языка – вторичной семиотической системы. Вторичность научной семиотики обусловлена вполне очевидной и естественной причиной: научный язык формирует научное познание, которое «зародилось в недрах обыденного познания, так как никакого другого познания просто не существовало» [7]. Поэтому влияние языкового фактора сказывается и на содержательной, текстовой стороне научной картины мира.
Эксплицитная научная картина мира вырастает из несформулированной наивной картины мира благодаря уточнениям и спецификации тех же основных языковых моделей, которые «породили» наивную, имплицитную картину мира [8].
«Современное состояние вопроса о статусе научной картины мира характеризуется достаточно большими сложностями. Выделяется несколько направлений в определении научной картины мира. Она представляется, во-первых, как раздел философского знания; во-вторых, как специфическая составная часть, компонента научного мировоззрения; в-третьих, как форма систематизации научного знания; в-четвертых, научная картина мира может рассматриваться как исследовательская программа» [9].
Для целей нашей работы наиболее подходящим представляется третье из перечисленных направлений: НКМ как форма систематизации научного знания, как совокупность всех конкретных наук (включая и гуманитарные науки). В дальнейшем научной картиной мира мы будем именовать всю совокупность научных знаний о мире, выработанную всеми частными науками на данном этапе развития человеческого общества.
Современный этап в развитии цивилизации создал условия для сближения научной картины мира и обыденной картины мира. К основным предпосылкам этого сближения Т.Л.Верхотурова относит следующие факторы:
-
- общие процессы глобализации;
-
- влияние СМИ на популяризацию научной картины мира, по крайней мере, многих ее фрагментов;
-
- повсеместное внедрение новых информационных и коммуникационных технологий, оказывающих ощутимое воздействие на получение и распространение информации любого характера, и доступ к ней, что существенно изменило современный «коммуникационный пейзаж»;
-
- общие эволюционные процессы, имеющие место в различных картинах мира, а также интеграционные тенденции, имеющие непосредственное отношение к этим процессам [2].
Естественно, что это сближение не означает полного слияния. В своих центральных областях научная картина мира и обыденная картина мира образуют весьма жесткие концептуальные и формальноязыковые ядра, которые, безусловно, отчетливо различны. Центральной областью научной картины мира следует считать совокупность естественнонаучной терминологии и текстов, принадлежащих - с точки зрения жанрово-стилистической категоризации - научному институциональному социолингвистическому типу дискурса [10]. Обыденная картина мира прототипически представлена в совокупности текстов и лексики личностно-ориентированного бытового и бытийного дискурса в его прямой и опосредованной повествованием и описанием форме [там же].
Сравнивая НКМ и ЯКМ, О.А.Корнилов отмечает, что они суть «конструкты разных видов сознания разных социумов на разных исторических этапах, имеющие различные функции» [11].
НКМ создается, формируется и используется узким кругом людей - учеными; в нее вносятся новые и новые элементы знания, она постоянно расширяется, совершенствуется, видоизменяется вместе с постижением научным сознанием миропорядка. ЯКМ, хотя и претерпевает определенные изменения, в целом же стабильна, и в этом ее суть и предназначение - сохранять и из поколения в поколение воспроизводить упрощенное, обиходное структурирование окружающего мира, обеспечивать преемственность языкового мышления носителей данного языка традиционно сложившимися категориями.
НКМ - плод познавательной деятельности человечества, отражающей сегодняшнее знание общества о мире. ЯКМ - напротив, всегда субъективна, а во-вторых, фиксирует восприятие, осмысление и понимание мира конкретным этносом не на современном этапе его развития, а на этапе формирования языка, т.е. на этапе первичного, наивного, донаучного познания мира. Так, из поколения в поколение дети, принадлежащие разным языковым сообществам, сначала познают мир специфическим языковым сознанием своего этноса, а лишь затем в процессе жизни в той или иной мере познают фрагменты научного знания о мире, ибо целиком НКМ в своем сознании не может хранить ни один человек.
По словам Мечковской, «...В своем основном объеме информация, составляющая семантику языка, известна всем говорящим на этом языке, без различия возраста, образования, социального положения. До школы, «только» в процессе овладения языком, в сознании ребенка формируются представления о времени и пространстве, о действии, о субъекте и объекте действия, о количестве, признаке, причине, цели, следствии реальности и нереальности и многих других закономерностях окружающего мира» [12].
Научное знание в отличие от языковой семантики известно разным членам языкового коллектива в разной степени. Владение им в полной мере - удел лишь специалистов, причем имеет смысл говорить о владении лишь очень ограниченным спектром знаний, лишь о знании небольшого фрагмента НКМ, если мы имеем в виду не отвлеченное понятие «мировое научное общество», а конкретных людей или даже коллективы ученых.
Продолжая дискуссию о соотношении НКМ и ЯКМ, Ю.Н.Караулов отмечает, что обе картины складываются из элементов знаний, но научная картина содержит систематизированные элементы научных знаний, образующих логически упорядоченную структуру, представляющую последовательно и детерминировано весь микрокосм и макрокосм нашего мира. В языковой картине мира заложены единицы знания о мире, включающие в себя как научные термины и понятия, так и целый набор единиц, отражающих способ восприятия мира человеком (афоризмы, фразеологические единицы, фреймы типовых ситуаций, пословицы и поговорки, крылатые слова, метафоры, прецедентные тексты культуры, прототипические образы национальной культуры, устойчивые оценки фактов, явлений, событий по шкале «хорошо-плохо» или «добро-зло» и др.). «Совокупность этих элементов не образует последовательной, стремящейся к завершенности картины мира. Скорее наоборот, они складываются в мозаичную, фрагментарно заполняемую, принципиально незавершенную, а подчас и противоречивую языковую картину мира, сильно окрашенную национальным колоритом. Важное ее отличие от научной картины мира состоит в том, что центром языковой картины мира, точкой отсчета и мерилом для всех ее составляющих служит человек, тогда как в научной картине мира человек занимает ничем не выделяющееся место где-то между, с одной стороны, элементарными частицами, а с другой - общей структурой мироздания. Кроме того, если научная картина мира претендует на полное, без разрывов и пробелов, отражение реальности, то языковая картина мира всегда остается лакунарной и непоследовательной» [13].
По выражению академика Б.В.Раушенбаха, ценность ЯКМ в том, что она отражает спонтанное, целостное восприятие мира человеком, а не только его логическое знание о нем, как это делает НКМ. По мнению ученого, представителя самой что ни на есть «научной части человечества», «Внелогическое знание старше логического. Его невозможно постичь, основываясь на рациональной логике. Механизма его действия мы не знаем. Оно приобретается как бы помимо науки… Логическое знание занимается частностями, оно ограниченное, хотя и является мощным инструментом. А мир в целом воспринимает внелогическая часть человеческого духа. Поэтому следует развивать в себе тот и другой способ познания. Восприятие мира должно быть целостным» [14].
Сравнивая НКМ и ЯКМ, исследователи отмечают, что это принципиально отличные друг от друга построения. Общее у них лишь одно – объект отражения, т.е. реальный материальный мир.
Если НКМ отражает точное, логическое знание о мире, то ЯКМ отражает именно то самое целостное представление о мире, включающее и наивное первичное знание, и логическое осмысление мира, и знания, не поддающиеся логическому объяснению, и явные заблуждения.
Научная картина мира, таким образом, является языковой картиной в не меньшей степени, чем обыденная картина мира, она также имеет две параллели своего существования, будучи интериоризо-ванной научной картиной сознания ученого-исследователя и объективированной в выступлениях, письменных текстах, представляющих научные взгляды, концепции конкретных авторов и отраслей науки. Языковое оформление этих научных, концептуальных систем не может не привлекать лингвистов, тем более, что множество эпистемологически важных категорий обнаруживается и в системе обыденного языка, и в системе научного языка – как лингвистики, так и других дисциплин, даже весьма от нее отдаленных.